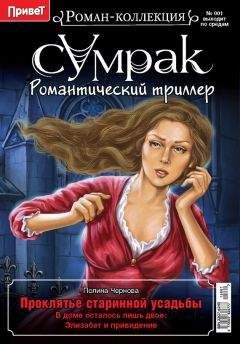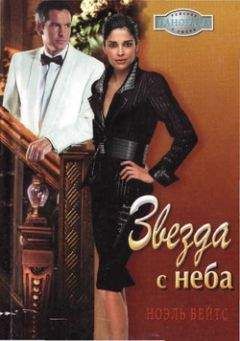Анатолий Азольский - Клетка
По условиям задачи все три символа выражались еще и деньгами, рублями и копейками, но за те рубли и копейки чего только не купишь в магазине, если у тебя есть еще и карточки, что совсем уж непонятно, и Ваня ошалело смотрел на стену, пугливо вставал, крался к окну, видел булочную, закрытую на ремонт, людей, спешащих куда-то… Да существуют ли они?… Символы бегают мимо символов! И рука притрагивалась к подоконнику, ощущала жесткость его, гладкость, глаза видели застывшую белую краску, и не один еще день глаза, уши и руки Ивана ощупывали вещи, он обонял запахи квартиры, ароматы двора, пальцы касались плоскостей и выступов, пока однажды жаркие ладошки Вани не легли на шаровидные наросты, на грудочки Наташки из соседнего подъезда, и жар хлынул вниз, к ногам, по всему телу разлилась сладкая боль, от которой надо было избавляться, спасением была сама Наташка, сама непрекращающаяся боль, и рук уже не отнять от наростов, внезапно обострилось обоняние, Иван, прильнувший к Наташке сзади, вдыхал кухонный запах ее волос, хотелось вжаться в девочку, войти в нее, слиться с нею. Кроме двух полусфер, обжатых ладошками, ощущались еще и половинки круглой попки; Наташка вдруг изогнулась и попкою оттолкнулась от Ивана; ладошки сами собой отнялись от вздутостей, девчонка пошла в магазин, помахивая сумкою, а мальчик продолжал гореть стыдом в холодном одиночестве лестничной площадки, он возненавидел Наташку. Повзрослев и познав женщин, он всех тех, на ком мужчины избавлялись от детского стыда и детской боли, стал называть «наташками», позабыв о том, что девчонка возбудила в нем жгучий интерес к великой тайне шарообразности всего сущего, что загадка подогнала его тогда к настольной лампе; рука подсунулась под абажур, как под платье, и обожглась о горячую лампочку, рука гладила теплое стекло, но тело не испытывало от теплоты и круглости сладостной до мучения боли, не упивалось ею, и что было радостью, удовольствием, а что болью - непонятно, еда ведь тоже доставляла радость, сытость всегда приятнее голода, но так однажды захотелось испытать пронзившую боль, что он сбежал с урока, вцепился в трамвай, переехал на другой берег Невы, прокрался в Летний сад, где под осенним дождем мокли статуи величавых женщин, сумел дотянуться до шаровидных наростов, но ничего, ничего не ощутил, кроме твердости. Тогда-то и подумалось о матери, о шарообразностях, из которых составлено живое, теплое человеческое тело, пронизанное кровеносными сосудами; воскресным утром (отец дежурил в больнице) Ваня, затаив дыхание, приблизился к спящей матери и отогнул край одеяла; глубокий вырез ночной сорочки позволял видеть розовые груди, рука коснулась ближней, но ни жара, ни приятности боли так и не ощутила, и другая грудь была такой же бесчувственной, как стеклянная лампочка, как абажур, размерами превосходивший грудь.
Отчаяние охватило его, хотя кое-какие надежды оставались; Ваня прикидывал, как забраться под одеяло и потрогать овальные половинки, - и вдруг ощутил на себе взгляд матери, в глазах ее была тревога, любопытство, легкая насмешка и сожаление. Мать натянула на себя одеяло, села, Ваня все рассказал ей - о Наташке, о холодных женщинах Летнего сада, и мать погоревала вместе с ним, прижала к себе, сказала, что алгеброй Наташку не разгадать, здесь надобна геометрия и стереометрия, и нужные книги она принесет, она все-таки - главная в библиотеке. Так велико было желание немедленно проникнуть в тайну, что книги с нижних полок были выворочены, сложены лесенкой, тут же разваленной матерью; мальчишеская рука успела вытащить «Учебник патологической физиологии» Н. Н. Аничкова, профессора Военно-медицинской академии, а мать твердо пообещала: будет куплена стремянка, будет! Но еще до того, как отец принес ее с рынка, приставленный к полкам стол позволял дотягиваться до старинных фолиантов, на титульном листе одного из них писано было вязью «Из книг вел. князя Сергея Михайловича», что весьма позабавило друга дома, частого гостя, научного работника Никитина, который посоветовал матери сжечь все-таки все списанные актом библиотечные книги. Появлялся он обычно с букетиком цветов, вручал его матери, затем деловито, по-учительски входил в комнату-класс, мрачным видом своим запрещая все разговоры, к уроку не относящиеся; более того, присутствие ребенка, то есть Ивана, считал столь же недопустимым и вредным, как нахождение первоклашки в компании курящих второгодников. Ивана поэтому за стол не сажали, загоняли его на стремянку, не догадываясь о том, что после Наташки у Ивана обострился слух. Девчонка мелькала во дворе, щебеча глупости, долетавшие до стремянки, если форточка была приоткрыта; громкие речи Иван не воспринимал, пропускал мимо себя, зато еле слышный шепот улавливал, не осмысливая, не вникая в него, уже зная, что слова, спрятавшиеся в нем, сами когда-нибудь заговорят, их вытолкнут запах и цвет, связанные с некогда услышанным. Он жил то с опозданием, то с опережением, слова настигали его с задержкою по времени, только через год после убийства Кирова прозвучал в нем разговор за двумя стенами. Никитин всерьез уверял отца и мать: все беды России - от мечтаний о сытости и тяга к набитому желудку приводит к мору, нищете, голоду, из чего и составлена история государства, где население никогда себя не прокормит, где количество еды не соответствует числу едоков и правители вынуждены не массу пищи увеличивать, а умерщвлять голодающих. Революции, войны, смены властителей - продолжал упорствовать Никитин - это и есть самые верные способы прокорма остающихся в живых; людей в России всегда будут убивать всеми дозволенными и недозволенными способами либо ограничивать рацион отправкою едоков в тюрьмы и лагеря, что всегда есть и будет. Сейчас же, бушевал Никитин, большевики перестарались, из чисто политических выгод изничтожили самую продуктивную часть сельского населения, так называемых кулаков, к чему приложил руку и Пантелей, зерна теперь станет еще меньше, морить голодом - это уже будет государственная необходимость; в ближайшие месяцы или годы начнется массовое уничтожение городского населения, ждите арестов, Ленинград опустеет - это я вам говорю, с цифрами-то соглашаться надо!
Такими бредовыми речами доканывал он родителей, и те соглашались: да, надо быть осторожными, никаких знакомств с теми, на кого может пасть подозрение, ни единого повода к тому, что… Слушая злопыхателя, отталкивая от себя все слова его, Ваня с высоты стремянки смотрел во двор, где Наташка развешивала белье, поглядывал и на балкон, куда в незастегнутом халатике выходила порою, тайком от мужа, покурить веселая женщина; мир был так разнообразен, что ни одна книга не могла объяснить его, но так приятны все эти попытки словом или формулой объять все сущее, и дикие, разуму неподвластные связи соединяли мир и книги: Мопассан заставлял вдумываться в сущность бесконечно малых величин, во все сужающуюся область между нулем и числами, к нему стремящимися, зато невинные рассуждения Гёте о цветах радуги звали к проходной «Красного выборжца»; с толпой подруг появлялась недавняя школьница Рая, притворно поражалась, пожимала плечами, однако же прощалась с понятливыми товарками и вела Ивана к себе, целоваться до одури и боли в деснах; иным, более тайным, занимались мать и Никитин в чьих-то домах, о чем догадывался отец, но помалкивал, ведь и мать не замечала частых отлучек отца, а обоим не понять, что научный работник Никитин противоречит себе: сам же водит знакомство с подозрительными, с матерью хотя бы, ту погнали уже из библиотеки, с ужасом обнаружили ее купеческое происхождение, и с отцом ему не следовало бы знаться: у того еще один выговор за что-то. Себя Никитин называл генетиком, работал в ВИРе, Всесоюзном институте растениеводства, там он, наверное, получал цифры о количестве едоков и пшеницы на один среднесоюзный рот, и прогнозы его стали оправдываться, начались аресты (пятнадцатилетний Иван давно уже почитывал газеты и перед сном слушал радио), однажды ночью увезли отца Наташки, он признался во вредительстве, как это, оказывается, делали и все арестованные, что угнетало, поражало родителей и что вызывало издевательский хохот Никитина, уверявшего: все признаются и сознаются, все одной веревочкой повиты, «палач пытает палача: ты людей - убивал?».