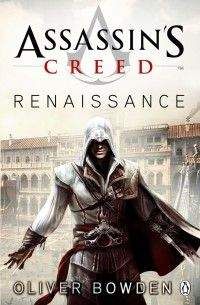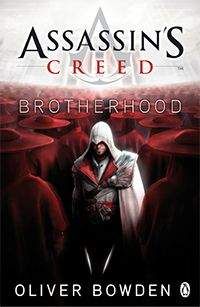Урсула Ле Гуин - Прозрение (сборник)
Не знаю уж, откуда взялись у меня силы, чтобы пережить эти дни. Наверное, я такая же, как и весь мой народ, а мы, как известно, сделаны из дуба [81]. Дубы не сгибаются, хотя могут сломаться. К тому же я ведь давно знала, что меня ждет. Я долгое время жила, зная о скорой смерти Энея, – с того самого дня, когда впервые увидела его лицо на носу боевого корабля, смуглое, неясно видимое в утренних сумерках, и его глаза, с мольбой и надеждой смотревшие на воды Тибра. Три года, сказал мне тогда поэт. Ровно три года и получилось – день в день. Три старухи, что прядут и отрезают нить человеческой жизни, отмерили ее точно, до последней пяди, не оставив ни кусочка. Не подарили нам с Энеем ни одного из летних дней.
* * *В тот первый год после смерти Энея опорой мне служили его старые боевые друзья, особенно Ахат. Хотя и моя дорогая Маруна, и те женщины, что пришли со мной из Лаврента, и мои новые друзья, та же Илливия, например, оказывали мне самую щедрую и искреннюю поддержку. Но мне все-таки лучше всего было в обществе друзей Энея – мне казалось, что так я ближе к нему. Их грубоватые мужские голоса, их манера двигаться и говорить друг с другом, даже их троянский выговор и особые интонации – все это давало мне некоторое утешение, ощущение того, что и он где-то рядом.
Ахат очень любил его; я бы сказала, хоть сердце мое и противится этому, что он любил его не меньше, чем я, и гораздо дольше. Я уверена: Ахат в то лето был близок к самоубийству. Ведь он именно себя винил в том, что случилось у брода, и все твердил: я должен был настоять, чтобы все надели кожаные доспехи, я должен был ни на шаг не отходить от Энея, я не должен был позволять ему отпускать того парня или, раз уж так случилось, должен был сам последовать за этим рутулом и глаз с него не спускать, и уж, по крайней мере, я должен был заметить лежавшее на земле копье... В общем, он винил себя абсолютно во всем и постоянно находил все новые и новые обвинения.
Именно Ахат первым рассказал мне, когда Энея принесли домой, что именно случилось у брода. Теперь-то я понимаю, что он тогда хотя бы отчасти выговорил передо мной свой стыд и гнев; да и мне самой, каким бы странным это ни могло показаться, хотелось снова и снова слушать его рассказ, благодаря которому я как бы собственными глазами видела гибель своего мужа. Я словно превращалась в Ахата, словно сама стояла на коленях над поверженным Энеем, сама вытаскивала страшное копье у него из спины, а потом несла его на руках и видела, как кровь из его раны окрашивает воды мелкой каменистой речушки. «Он умер не сразу. Он взял меня за руку и не выпускал, но, по-моему, он меня уже не видел, – говорил Ахат. – Глаза его смотрели куда-то в небо. А когда мы его подняли и положили на носилки, он сам закрыл глаза. Но так и не сказал ни слова». Да, он тогда так и не сказал ни слова, но умер не сразу. И пока Ахат рассказывал мне об этом, Эней для меня по-прежнему не был мертв.
Асканий, страшно растерянный и почти утративший разум от горя и свалившейся на него огромной ответственности, сперва весьма ревниво отнесся к тому, что я столько времени провожу в обществе троянцев, считая, что это его люди, а я не имею к ним никакого отношения. Кроме того, ему нужны были их советы; он хотел, чтобы они выполняли его приказы, а не слонялись по регии, «болтая с женщинами». В итоге он приказал Ахату отправляться в Альба Лонгу и заняться тамошними делами. Ахат подчинился его приказу без лишних слов, но я боялась за него и потихоньку переговорила со своим пасынком. Я попросила Аскания послать в Альбу Мнесфея или Сереста, которые, во-первых, гораздо лучше знали те места, а во-вторых, с более легким сердцем оставили бы Лавиниум.
– Пусть Ахат побудет здесь хотя бы до конца года, – сказала я. – Он ведь каждый день ходит на могилу Энея. Пусть он выплачет свое горе и немного исцелит душу. У него сейчас попросту не хватит душевных сил, чтобы править в Альбе.
– Значит, ты хочешь, чтобы он с тобой остался? – сухо спросил Асканий.
Я давно заметила, что те мужчины, чью плотскую страсть пробуждают не женщины, а представители мужского пола, совершенно уверены: все женщины порочны и ненасытно похотливы. Не знаю, то ли это связано с их собственными тайными желаниями и страхами, то ли это обыкновенная ревность, но подобные представления служат отличной питательной средой для презрения и непонимания. Асканий именно так и воспринимал женщин, а его горячее желание свято блюсти память об Энее приводило к тому, что он подозревал меня в плотской связи чуть ли не с каждым мужчиной. Я это давно уже поняла, и подобное оскорбительное отношение выводило меня из себя, заставляя испытывать к Асканию некое ответное презрение. Но я прекрасно понимала, что ни гнев, ни возмущение, ни презрение не принесут мне ничего хорошего, а потому ответила спокойно:
– Я бы хотела, чтобы со мной остались все друзья Энея и, конечно же, его старший сын. Дело не в этом. Горе Ахата столь велико, что я все время боюсь, как бы он не лишил себя жизни. Умоляю тебя, позволь ему остаться с тобой в Лавиниуме хотя бы до конца зимы, а в Альба Лонгу пошли кого-нибудь другого.
– Больше всего мне хочется самому туда уехать! – сказал Асканий и принялся широкими шагами мерить комнату, в которой мы находились; он, в общем, не особенно походил на отца, но двигался в точности как он. – Я, собственно, полагал, что оказываю Ахату великую честь, – сказал он после долгого молчания. – Главным городом Лация станет Альба Лонга, а не Лавиниум. У него и местоположение гораздо лучше – он стоит на высоком холме, да и земли там лучше. И потом, Альба находится в самом центре тех земель, которые станут нашими, как только я подчиню себе Рутулию. Да, я действительно думал, что Ахат сочтет за честь подобное поручение. Но если он действительно настолько сломлен, как ты говоришь, то я, пожалуй, пошлю туда Мнесфея и Атиса. И тебе вовсе не нужно умолять меня, стоя на коленях, милая моя мать! – воскликнул он, увидев, что я и впрямь готова упасть перед ним на колени и, как это принято у наших женщин, умолять его, обхватив его ноги руками. Я знала, что против такого жеста ему не устоять. Жестоким Асканий не был; по природе своей он скорее был добр и мягок, хоть и старался скрыть это. Его легко можно было переубедить, хоть он и проявлял чрезвычайное упрямство, даже непреклонность, в том, что касалось вопросов иерархии и всевозможных законов и правил, помогавших ему бороться с собственной неуверенностью, сохранять чувство собственного достоинства и самоуважение.
Но здесь, в Лавиниуме, это давалось ему нелегко; жители нашего города, оплакивая Энея, прославляли и почитали старого Латина, а меня любили как дочь царя и вдову царя, его же, Аскания, они открыто отвергали. Пытаясь соперничать с авторитетом Энея, Асканий бывал резок с людьми, судил их зачастую предвзято и был весьма капризен и непредсказуем в суждениях. Да, тот год был для него особенно трудным, хотя все остальное складывалось хорошо: урожай мы собрали отменный, а в Лации по-прежнему царил мир, если не считать отдельных незначительных налетов на приграничные крестьянские хозяйства. Однако серьезных нарушений границы, которые, как мы опасались, могут последовать за гибелью Энея от руки жалкого изгоя, не происходило ни с той, ни с другой стороны.