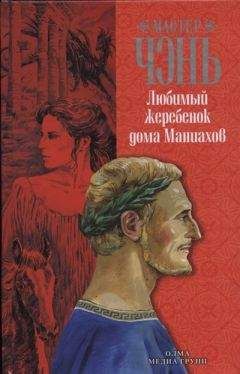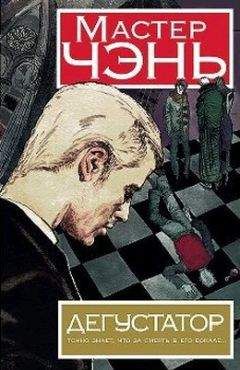Мастер Чэнь - Любимая мартышка дома Тан
И мечта эта, как ни странно, сбылась.
— А ты, оказывается, еще и воин, — сказала прекрасная актриса, водя пальцем по моей спине. — Лю, конечно, тонкая душа — как это она догадалась, что сегодня мне хотелось хоть немножко тихо полежать рядом с тобой. Но каких-то вещей она, знаешь ли, не понимает. Для нее ты торговец с Запада, и только. Но просто торговцы — они, как бы это сказать, не такие. Ты, может быть, и торговец, но совсем не простой… И твои шрамы… А вот этот шрам — от меча? Да еще в таком опасном месте, прямо под левой лопаткой.
— Кинжал, — сказал я. — Скользнул по ребру, ушел в сторону, порвал кожу. Я, помнится, даже не успел заметить, как это произошло, — не до того было. А если бы не скользнул, то меня бы здесь не было.
— А вот это, — продолжила свои исследования она, нимало не впечатлясь моим кратким рассказом, — вот это, на правом плече: круглая, маленькая такая штука. Это, конечно, стрела. Расскажи, что чувствуешь, когда в тебя попадает стрела? Это очень плохо?
— Ничего хорошего, — вздохнул я. — Сначала тебя как будто ударяют кулаком — в моем случае тут, сзади, в правое плечо. И вроде бы больше ничего не происходит. Скачешь себе дальше… Но потом замечаешь, что не можешь пошевелить правой рукой и плечом — что-то мешает, что-то держит: очень странное чувство. И это понятно: стрела просто скалывает, как заколка для прически, броню и одежду с двух сторон, спереди и сзади. Боли сначала почти никакой — в битве часто бывает, что боль приходит не сразу. Но потом ты смотришь вниз, и видишь, что у тебя из плеча торчит что-то острое и красное. До тебя не доходит сначала, что это: неужели твоя собственная кость? Как она тут оказалась, почему?
Актриса прерывисто вздохнула, подперев голову кулачками и не сводя с меня глаз.
— Но все-таки, — продолжал я, — постепенно начинаешь что-то понимать. И быстро думать: если сразу не вытаскивать стрелу — можно еще немного проскакать, добраться к своим и попросить помощи. Главное же — если она попала не в плечо, а чуть левее и ниже, то скоро твоя кровь зальет всю грудь изнутри, перед глазами у тебя появится серый туман, и ты упадешь с коня, и тогда никакой надежды… И вот ты скачешь и думаешь: не может быть, чтобы это происходило именно с тобой, ведь все шло так хорошо, да и вообще — ты до сих пор жив и в седле, может быть, все не так и страшно?… Ну, а дальше надо ее все-таки вытаскивать, и вот это очень, очень плохо.
В награду за свой рассказ я получил нежное прикосновение ее щеки к белому шраму и шепот:
— А ведь я о тебе ничего не знаю. А что если ты был великим воином в своей стране?
— А если и был, — поднялся я с шелковых простынь, — если и был — то что в этом хорошего? Много народа уничтожили эти великие воины, а зачем — кто сейчас разберет. Вот, попробуй это вино… Что ты о нем скажешь?
Я осторожно налил из глиняного чайника густое, темно-красное с оранжевым проблеском вино в две чаши из полированного камня.
— Ого, — с уважением произнесла актриса Юй, вдохнув его аромат. — Как будто очень спелые ягоды, и еще… я бы сказала, кожа старого седла… И пряности с Южных островов. Это ведь чистый виноград, тут нет ни шафрана, ни других пряностей? Ой, какая прелесть.
— Перезревшая ежевика, — подтвердил я, глядя на нее с уважением. — И очень зрелая вишня. И кожа — тоже правильно… Даже, может быть, легкий оттенок угля. И, конечно, в такое вино ничего добавлять не надо. Да просто нельзя.
С удовлетворенным вздохом она осторожно перевернулась на спину, краешком глаза проверяя, восхищаюсь ли я ее маленькими торчащими сосками (тут мы обменялись ленивыми и счастливыми улыбками). А потом сделала медленный глоток. Я ждал слов «никогда ничего подобного не пила». Но услышал нечто другое:
— Оно хранилось в сосуде несколько лет, запечатанное воском. Так и скользит по языку, очаровательная кислота, а у корней языка — сладость. О небо, какое тяжелое и густое… Это не похоже на вино из Ляньчжоу, которым угощает наш великий воин Гэшу Хань. Хотя вроде бы куда уж лучше ляньчжоусского. И не Ланлинь, потому что и там, и там вино — золотое, а тут почти черное. И ароматам нет конца, они меняются… Знаешь, это, может быть… Мерв. Я слышала, там есть одна знаменитая винодельня, совсем маленькая, о ней рассказывают сказки. Говорят, один кувшин такого вина стоит больше молодого верблюда… А вдруг это оно и есть? Знаешь, такое вино надо пить из большой стеклянной чаши. Чтобы аромат был сильнее.
Уже по одним этим словам я мог бы догадаться, кто передо мной. Но все же не догадался.
Стеклянная чаша? Да большинство жителей столицы о такой и не мечтали. Ее цена тоже могла оказаться не меньше цены верблюда.
Мгновенно угадать вино из Мерва, да еще и почти назвать знаменитейшую винодельню? Кем надо быть, чтобы знать вкус этого вина монархов и героев?
У меня появилось неприятное чувство: если эта женщина знает вино из Мерва, она может знать и все прочее, что стоит за этим названием и касается лично меня.
Мерв — это там, где армия Кутайбы ибн Муслима долго нависала над границами бухарского Согда. Первым пал Байкенд, город шелкоторговцев, где стоял громадный дом моего деда, знакомый мне до последнего коридора и последнего персикового дерева в саду, — впрочем, тогда, в год первого похода Кутайбы, я только-только научился ездить верхом, а потом и ходить.
Дальше, после похода, железные колонны всадников Кутайбы вернулись в Мерв. Но вскоре снова обрушились на восставший Байкенд. Через три года пришла очередь Бухары.
Все мое детство прошло под отчаянный шепот слуг и родных: неужели сейчас, когда «черные халаты» взяли еще и Хорезм, они осмелятся тронуть Самарканд, грозный, неприступный, с двойной каменной стеной и лучшими в мире кольчугами и изогнутыми мечами, лучшими в мире воинами, для которых смерть — как желанный вечерний отдых?
Но Кутайба решился. И я до сих пор помню шепот и всхлипывания, качание рыжих отсветов внезапно зажженных среди ночи светильников. Сильные руки бросили меня на седло и долго везли в ночь. Жутко стучало в мою спину сердце того, кто погонял коня так, будто бежал от чудовища-аждахора.
Мерв… Эта женщина могла знать и многое другое, связанное с названием этого города. Год за годом тихой и упорной войны, которая ведется не на поле боя, а на улицах и в ночных комнатах, когда из рук в руки передаются деньги, шепотом произносятся имена верных людей. Это уже не из моего детства, эта война закончилась совсем недавно, и вели ее не только несчастные дед и отец, а и я сам.
И вот — именно Мерв начинает неожиданно полыхать восстанием, и тысячи языков вдруг начинают повторять имя дяди пророка — Аббаса, — и ныне живых его потомков; и приходит не знающий поражений Абу Муслим; и, наконец, тот, кто потом стал великим Мансуром.