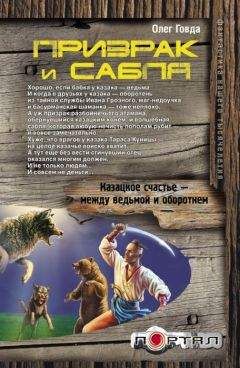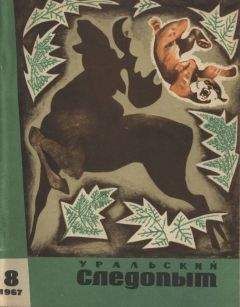Олег Говда - Сабля и крест
Глава шестая
Что-то было не так! Куница подошел к самому берегу реки и принюхался. Странно, но глаза его не обманывали — ни гарью, ни пороховым дымом в околице Сечи не пахло. И все-таки на душе у молодого ведуна было слишком неспокойно, чтобы совсем не обращать внимания на тревожное предчувствие. Прищурив правый глаз, Тарас попытался окинуть возвышавшуюся на острове крепость колдовским взглядом, но уже в следующее мгновение был вынужден отказаться от своего намерения. Он-то и пользовался этим умением всего пару-тройку раз, а тут были собраны вместе, даже не сотни — тысячи людей, которым по определению не суждено умереть от старости. Из-за такого количества всевозможных знаков и знамений, у него аж голова закружилась. Но то, что самой Запорожской крепости в ближайшее время ничего не угрожает, Куница все-таки сумел разобрать.
— И что ты по этому поводу думаешь? — поинтересовался ведун вслух, обращаясь к изящной, тонконогой кобылке, которую вел в поводу.
— Слишком тихо… — не очень внятно пробормотала в ответ кобылка, неспокойно вертя точеной головой с пышной, золотистой гривой. — Я бы даже сказала, атаман Тарас: тоскливо. Ускакать хочется…
'Прости, я мысленно. Говорить таким ртом слишком трудно… неудобно… — мгновение спустя возник в голове казака голос Галлии. — Чересчур много силы вокруг. Столько всего разного намешано, что и не разберешь сразу. Тут тебе и истовая вера в Спасителя, и откровенное степное шаманство, и нечисть…'
— Где нечисть? — встревожился Куница. — В Сечи?
'Нет, в саму крепость бесам не проникнуть. Там святое место. Искреннее. Меня и то прошибает… А вон там, у излучины, что-то притаилось в воде. И это не русалки, и не водяной… Видишь?'.
Тарас взглянул левым глазом на реку и отчетливо разглядел в полутора сотне шагов, за частоколом, в том самом месте, где запорожцы по обыкновению топили приговоренных к позорной смерти преступников, поднимающееся из глубины реки на поверхность мутное, багрово-красное свечение.
— Да, вижу… — подтвердил. — Плохое место. Надо будет сказать отцу Никифору, чтоб отслужил там молебен по загубленным душам и очистил от скверны… Ну, да ладно. За всем не уследишь. Да и некогда. Я пойду в крепость и попытаюсь найти Ивана Непийводу. Сам не понимаю, откуда берется эта уверенность, но явно чувствую: именно он поможет найти моего отца. А ты — жди здесь. По казацкому обычаю — женщинам вход на Сечь запрещен. И то, что ты, Галя, лошадкой обернулась, значения не имеет. Любой характерник вмиг обман раскроет, а тогда нам всем не поздоровится. И если для меня наказание может ограничиться киями, то тебя, как и любую другую девушку, запорожцы казнят без разговоров.
'Сурово… — невольно вздрогнула кобылка. — А если б я была твоей женой?'
— Ну, во-первых, ты мне не жена… — слегка покраснел молодой казак, — и не будешь, поскольку я уже с другой девушкой помолвлен. А во-вторых, это не имеет значения. Женщинам на Сечи делать нечего!..
'За что ж казаки так женщин невзлюбили?'
— Потому, что от вас все раздоры идут. Даже из Рая Адам был из-за Евы изгнан. А о том, что красивая девушка может даже побратимов поссорить, лучше вообще не упоминать. Ну, а войску подобная морока совсем ни к чему. Вот и ввели на Низу такой закон. От греха подальше…
'Жаль. Мне кажется, что когда воин знает, что рядом есть та, которая и раны перевяжет, и за добром приглядит, покуда он отдыхает, ему больше сил для сражения остается. И что помолвлен ты с другой, не беда… — мысли девушки звучали в голове Куницы вроде всерьез, но и с легкой насмешкой. Так, как девушки разговаривают с понравившимися им парнями, мол, понимай сказанное, как хочешь, а правду только я знаю. — У нас, атаман Тарас, каждому мужчине Коран четырех жен разрешает. А такому багатуру, как ты, еще и гарем наложниц завести можно'.
— Тьфу на тебя, душа басурманская, — сплюнул в сердцах Куница. — Баба есть баба. Одно на уме. Только ты забыла, что жениться я на тебе смогу, только если ты христианство примешь. Вот. А эта вера многоженство запрещает. Так что не морочь мне голову и жди здесь!.. Ничего не опасайся, конокрадов, как и всех иных воров, на Запорожье нет. Помимо всеобщего презрения, всякий, уличенный в посягательстве на чужое добро, будет привязан к позорному столбу на сутки, и каждый казак волен один раз ударить его по спине кием. Еще не было случая, чтобы кто-то из осужденных выжил. Вот и не воруют… — Тарас помолчал, задумавшись, к чему это он. — Ага, ну вот. А я обернусь так быстро, как только сумею…
'Хорошо, атаман Тарас. Как скажешь…'
— Вот и славно… — Куница поправил пистоли и зашагал к парому.
Немного вниз за порогами, как раз там, где впадает в Днепр неторопливая Томаковка, угнездился высокий остров. Говорили старики, что это не в меру проказливая по весне речка приносила вместе с вешними водами песок и камни и словно в шутку взгромоздила кусок суши посреди быстрого и широкого речища Днепра. Точно так, как порой малые дети, озорничая, делают пакости старшим.
С северной стороны остров омывал пролив Ревун, закрывали от непрошеных гостей два болотистых озера и такой же илистый Чернышевский лиман. А с юга шмат суши огибало неторопливое, но глубокое Речище и очень широкие, раскинувшиеся на несколько верст плавни. Понравился остров запорожцам своей неприступностью, вот и остановились они здесь, после того, как пришлось покинуть, уничтоженный басурманами городок на Хортице. Остров Буцким[1] назвали, а выстроенную на острове крепость — Сечью Томаковской[2].
Обычно в это утреннее время, когда летний зной еще не слишком докучал, жизнь в казацкой крепости бурлила, как кулеш в котле. Все запорожцы находили себе какое-то занятие, откладывая безделье на более позднее, послеполуденное время, когда от жары и сытного обеда станет лень не только заниматься чем-то стоящим, а даже в шинок сходить или в воду окунуться. Но сегодня все было иначе…
В кузницах, где только сейчас и работать, пока в воздухе еще витает остаток ночной свежести, кузнецы даже не разжигали горны, а всего лишь вяло постукивали молотками по холодному железу. А сами казаки то там, то сям толпились небольшими кучками, при этом — без присущего их бесшабашной натуре раскатистого хохота и зубоскальства, а всего лишь негромко переговаривались промежду собой.
Дед Карпо, самый старый и уважаемый кошевой кобзарь, хоть и сидел на своем неизменном излюбленном месте, напротив корчмы Мойши, но тоже перебирал струны бандуры не в залихватском 'гопаке' или искрометной 'метелице', а так, словно покойника отпевал.
А причиной столь необычного поведения запорожцев был кряжистый седоусый казак, который, опустив гладковыбритую голову и сильно прихрамывая обеими ногами, понуро брел к лобному месту. Казака, обнажив сабли, сопровождали два сердюка. Что делалось только в самых исключительных случаях, чтоб не допустить самосуда над преступником. Хотя вряд ли нашелся бы во всей Томаковской Сечи кто-либо, желающий смерти Ивану Непийводе, несмотря на нелепое и страшное обвинение, которое старый запорожец сейчас нес на своих плечах.