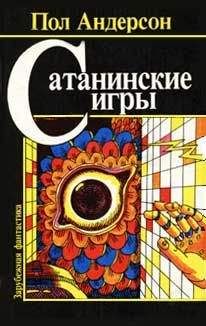Макс Фрай - Пять имен. Часть 2
Повернулась, вышла из избы и пошла, сначала по дороге, а потом напрямик через поля, чтобы немного срезать.
Идти оказалось куда дольше, чем она помнила. Каким-то убеждением она знала, что сделать нужно все в одну ночь, без единой заминки, и потому шла, не оглядываясь, высоко задрав юбку, потому что та намокла от росы и облепляла ноги, как пелена. Ее голые белые коленки светляками мелькали в траве, а она шла, не замедляя шага и не останавливаясь, полная луна бежала ей сначала в лицо, затем переместилась вбок и провалилась в дальний лес. Уже совсем светало, когда она увидела колокольню на холме и еще прибавила шагу.
Колокол был на месте, огромный и безъязыкий. Никаким молотом, никаким камнем не смогла бы она добиться от этой махины звука, хотя бы отдаленно похожего на звон. Она искательно оглянулась, даже побродила среди домов деревни — половина из них была сожжена — но, конечно, ничего не нашла. Вернулась к колоколу, в замешательстве похлопала по нему ладонью. Он отозвался заметной дрожью, неслышной, но явной, словно передернулся, как передергивает шкурой лошадь, отгоняя гнус. Войдя под колокол, Мария разглядела кольцо, к которому крепился бы язык, будь он когда-нибудь у этого гиганта. Бормоча что-то про себя, она снова обошла колоколенку (как эта высота уцелела в боях — непонятно, разве что не жгли ее до последнего момента, а потом уж было некому), а потом, решившись, снова взялась обшаривать останки деревни. Когда она вернулась к колоколу, в руках у нее была веревка.
Кто ее надоумил и кто помог продернуть веревку в кольцо — непонятно. Так или иначе, после, может быть, нескольких часов унылой и тяжелой возни, она оказалась внутри колокола, раскачиваясь живым языком в его гулком пространстве. Первый раз ударясь коленками, она чуть не взвыла от боли, но ее накрыло такой мягкой и звучной волной, что она тут же, не дожидаясь, когда стихнет первый отклик, качнулась сильнее. И еще раз. И еще.
Очень быстро она оглохла и перестала что-либо соображать, а мир гудел, ревел и стонал вокруг нее, тело ее билось внутри какофонии звуков, земля плясала внизу под черными пятками, вертелась все быстрее и быстрее, раскручивалась, как волчок, сливаясь в одно невнятное пятно. Вытянутые руки онемели и затекли до бесчувствия, если бы она не захлестнула запястья петлей, давно бы не выдержала и разжала бы пальцы, а так веревка держала ее крепко, как Иуду на осине, и качалась, качалась, качалась…
* * *Она открыла глаза.
— Это же как надо было клею вашего поганого нанюхаться! — выговаривал над ней визгливый бабий голос. — Это музей, понимаете вы, девушка, музей! Ни стыда, ни совести у нонешних, совсем оборзели, простигоссподи! Вот я милицию вызвала, сейчас они приедут за тобой, голубушка, приедут, будь уверена!
Мария приподнялась на локте и огляделась. Колокольни не было. Были два каменных столба, огромный колокол между ними на стальной толстой балке. Табличка желтоватого металла на одном из столбов гласила: "Памяти павших в боях за…" — дальше было не разобрать за юбкой заполошной бабы. Холм с желтоватой травой. Незнакомая церковь на холме поодаль. Зелень деревьев вокруг. И за стеной деревьев — на все стороны и насколько хватало глаз — дома, дома, дома, высоченные городские дома, иные, может, этажей в сто, аж дух захватывало. И перетертая, с кровью, веревка на саднящих запястьях.
Баба все привизгивала над ней, всплескивала руками, а Мария смотрела на мозаику над церковным алтарем — там, из слюды и перламутра сотканный, вставал из каменного гроба ее солдатик, именно такой, каким она его помнила, больной и бледный, и других мыслей не было в голове, кроме единственной и маловнятной: "Получилось… у нас получилось".
сон
Осень забирается укоризной своей во все, даже в сны мои, сны забираются укоризной в жизнь, жизнь обретает привкус сушеной апельсиновой корки, присыпанной корицей коросты коричневой пенки вскипающего кофе…
Вот оно, вот оно, самое неуемное: вычеркни человека из жизни, потеряй его адрес и телефон, забудь, как близки были когда-то, спрячь самую память в далекий, теплый, не имеющий продолжения угол — и тот, кого ты так мучительно забывал, придет к тебе в снах, придет говорить о тебе и о том, что было когда-то.
Разговор, как повторяющийся сон, сон, как повторяющийся разговор, костяной китайский шар в костяном китайском шаре, явь и сон меняются местами, истлевают, сплетаются, остаются в воздухе, как запах корицы в кофе.
Суета, толпа, что-то надо сделать, что-то решить, все куда-то спешат, и только мы вдвоем посреди этого потока, вырванные из общей кутерьмы, лишь делаем вид, что спешим вместе со всеми, на самом же деле уже семь лет ведем один и тот же бесконечный разговор:
— Ты пропал и не заходишь, не звонишь даже. Почему?
— Ты отлично знаешь, почему. Я люблю тебя.
— Из любви не заходишь уже семь лет?
— Когда я приду, я тебя потребую. А у тебя муж и двое детей.
— Ну и что. Если любишь, какая тебе разница?
— Мне — никакой. Но я не могу придти к тебе только за тем, чтобы сломать жизнь. Я слишком люблю тебя для этого.
— Я не понимаю такой любви.
— Все ты понимаешь. Ты же тоже не звонишь и не заходишь.
— Я о тебе думаю.
— А я вижу тебя во сне куда чаще, чем это необходимо для спокойной жизни.
Как я скажу тебе, что все мои мысли — с тобой? Как объясню тебе, что ты могла бы гордиться мною теперь — теперь я и пишу, и рисую гораздо лучше, чем ты, а когда-то учился у тебя, бежал к тебе с каждым наброском, ежился от твоей беспощадной, кошмарной рецензии, надувал губы, уходил снова работать в свой угол.
И похвала твоя была как похвала Бога.
Как я скажу, что все поменялось местами, что теперь ты — это я, что я ношу тебя в себе, ношу твою насмешливую улыбку, твою и только твою манеру кривить губы, твой острый взгляд из-под тяжелых век? Что я присвоил это все себе, как свое, что я принял себе даже то имя, которое когда-то тебе отдал, как прежде того принял старшинство, которое стало тебе неуместно? Как я приду со всем этим к тебе теперь?
Ведь я вывалю все это к твоим ногам и скажу — забери, ради всех богов, забери, я хочу быть младшим, я хочу уходить работать в свой угол, я хочу похвалы Бога.
Ведь я потребую тебя, а у тебя муж и двое детей, и то время, когда мы с тобою были одни на свете, прошло уже двадцать лет назад.
Я просыпаюсь и с горечью сознаю, что мы только что виделись и говорили — вопреки нашему нежеланию звонить и заходить. И дежурный мой крепчайший кофе с корицей никак не перебивает эту горечь.
вавилонская башня