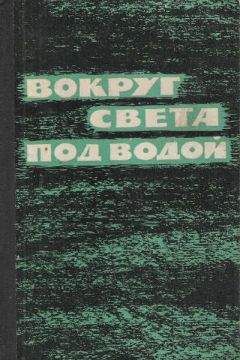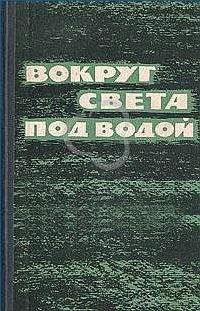Теренс Уайт - Свеча на ветру
— Я тоже думал об этом.
— И тот разговор на прошлой неделе. По-моему, он пытался нас предупредить. Постой! Ты ничего не слышал?
— Нет.
— Мне почудился какой-то шорох за дверью.
— Пойду взгляну.
Он подошел к двери и распахнул ее, но за ней было пусто.
— Ложная тревога.
— Тогда запри ее.
Ланселот запер дверь на засов — массивный дубовый брусок шириною в пять дюймов, глубоко сидевший в особом пазу, проделанном в толстой стене. Вернувшись к свету, он разделил сияющие волосы на пряди и принялся быстро их заплетать. Руки его порхали, как ткацкие челноки.
— Нервничать глупо, — заметил он. Гвиневера, однако, продолжала размышлять и ответила ему вопросом.
— Ты помнишь Тристрама с Изольдой?
— Конечно.
— Тристрам спал с женой Короля Марка, и Король убил его за это.
— Тристрам был недотепой.
— А мне он казался милым.
— Это ему от тебя и требовалось. И все же он был корнуольским рыцарем и ничем не отличался от них.
— Но его называли вторым среди рыцарей мира. Сэр Ланселот, сэр Тристрам, сэр Ламорак…
— Обычная болтовня.
— Но почему ты считаешь его недотепой? — спросила она.
— Ну, это длинный разговор. Ты ведь не помнишь, каково было рыцарство перед тем, как Артур основал Круглый Стол, а потому и не знаешь, за какого гениального человека тебе посчастливилось выйти замуж. Тебе не заметна разница между Тристрамом и — ну, скажем, Гаретом.
— И какая же между ними разница?
— В прежнее время каждый рыцарь стоял сам за себя. Люди бывалые, хоть тот же сэр Брюс Безжалостный, мало чем отличались от настоящих бандитов. Доспехи делали их неуязвимыми, они это знали, — вот и творили, что хотели. Резали кого ни попадя и блудили, как заблагорассудится. Поэтому, когда Артур взошел на трон, они изрядно прогневались. Он, понимаешь ли, верил в Добро и Зло.
— Он и поныне в них верит.
— По счастью, у него имелся еще и твердый характер, не одни только идеи. Ему понадобилось лет пять примерно, чтобы утвердить эти идеи, а сводились они к тому, что человек должен быть добр. Пожалуй, я одним из первых перенял у него эту мысль, а поскольку я был еще юн, он сделал ее частью моего существа. Обо мне всегда говорят, что я рыцарь добрый, — ну просто само совершенство, да только я-то тут ни при чем. Это все идеи Артура. Именно этих качеств он ждал от младшего поколения, от Гарета, скажем, а теперь они вошли в моду. И привели в итоге к Поискам Грааля.
— Но Тристрам-то почему недотепа?
— Да уж таким уродился. Артур называет его буффоном. Он жил в Корнуолле, Артурово воспитание его миновало, но веянья моды он ухватил. У него бродили в голове какие-то путаные понятия о том, что знаменитому рыцарю следует быть добрым, и он всю жизнь бросался из стороны в сторону, норовя подстроиться под моду, но толком не понимая ее и не чувствуя. Вроде нерадивого ученика — списывает, но не понимает. Настоящей-то доброты в нем и на йоту не было. С женой он себя вел отвратительно, бедного старика Паломида вечно изводил, не позволяя ему забыть, что он всего-навсего черномазый, и с Королем Марком обходился самым постыдным образом. Корнуольские рыцари принадлежат к Древнему Люду, и в душе они всегда питали враждебность к идеям Артура, далее если отчасти их и усваивали.
— Как Агравейн.
— Верно. Мать Агравейна из корнуольцев. Агравейн потому и ненавидит меня, что для него я олицетворяю эти идеи. Забавно, но всю нашу троицу, тех, кого обыкновенные люди называли лучшими рыцарями, — я имею в виду Ламорака, Тристрама и себя самого, — потомки Древнего Люда от души ненавидели. Когда Тристрам погиб, они с ума сходили от радости, а все потому, что он копировал нашу идею, да и Ламорак был убит, причем предательски, не кем иным, как семейством Гавейна.
— Я думаю, — сказала она, — что на самом деле все причины, по которым Агравейн тебя ненавидит, сводятся к старинной басне о зеленом винограде. Не волнует его никакая идея, он просто естественным образом терзается завистью к любому бойцу, который его превосходит. Он ненавидел Тристрама за взбучку, которую получил от него по дороге в Веселую Стражу, а в убийстве Ламорака участвовал, потому что тот его побил на турнире вблизи аббатства; что до тебя — сколько раз ты его повергал?
— Не помню.
— Ланс, ты понимаешь, что двое других ненавистных ему людей уже мертвы?
— Рано или поздно умирает каждый. Внезапно Королева рванулась, высвобождая из его пальцев пряди своих волос. Она развернулась в кресле и, придерживая одной рукой косу, уставилась на него округлившимися глазами.
— Я уверена, что Гарет сказал правду! Я уверена — они сейчас идут сюда, чтобы захватить нас!
Она вскочила и начала подталкивать его к двери.
— Уходи. Уходи, пока еще есть время.
— Но Дженни…
— Нет. Никаких «но», я знаю, что это правда. Я чувствую. Вот твой плащ. Ах, Ланс, пожалуйста, уходи поскорее. Они закололи сэра Ламорака ударом в спину.
— Оставь, Дженни, не волнуйся так неизвестно из-за чего. Это только фантазии…
— Это не фантазии. Прислушайся. Слушай.
— Ничего не слышу.
— Посмотри на дверь.
Ручка, приподнимавшая дверную щеколду, кусок металла, выкованного в форме конской подковы, медленно сдвигалась налево. Она перемещалась, будто краб, с некоторой опаской.
— Ну, и что там с дверью?
— На ручку смотри!
Они стояли, зачарованно глядя, как она движется — вслепую, рывками, робко и неуверенно, как бы нащупывая путь.
— О Боже, — прошептала Королева, — теперь уже слишком поздно!
Щеколда упала на место, и о дерево двери звучно ударил металл. Дверь была крепкая, двуслойная, в одном слое волокна шли вдоль, в другом поперек, и снаружи в нее ударили латной рукавицей. Голос Агравейна, отдаваясь эхом в пустотах его шлема, закричал:
— Именем Короля, откройте дверь!
— Мы погибли, — сказала она.
— Рыцарь-изменник, — выкрикнул голос, похожий на ржание, и дерево содрогнулось под ударом металла. — Сэр Ланселот, теперь ты попался!
Закричало еще несколько голосов. Множество доспехов, более уже не сдерживаемых необходимостью соблюдать осторожность, залязгало по каменной лестнице. Дверь прогибалась, приникая к засову.
Не сознавая того, Ланселот тоже перешел на язык рыцарства.
— Не сыщется ли в покое каких-нибудь доспехов, — спросил он, — дабы мне прикрыть мое тело?
— Ничего нет. Даже меча.
Он стоял, глядя на дверь с озадаченным, деловитым выражением и покусывая пальцы. В дверь лупили уже несколько кулаков, она содрогалась, голоса, долетавшие из-за нее, вполне могли принадлежать своре гончих.
— Ах, Ланселот, — сказала она, — здесь нет ничего, чем можно биться, и ты почти гол. Их много, они при оружии. Тебя убьют, а меня сожгут на костре, и наша любовь пришла к печальному концу.