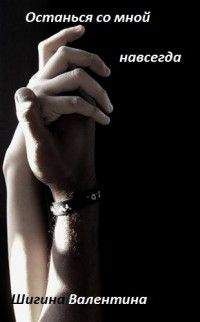Останься со мной (СИ) - Ершова Алёна
— Щур рода Премудрых, прошу дать мне право прохода в Навь!
Руку обожгло. В лицо ударил ветер. Вытрепал пряди с косы, разогнал душную хмарь.
«Кровь Премудрых, — зашелестело вокруг, — Крепкая, терпкая, истинная. Нашшша».
«Своя, своя», — разнеслось от края моста к краю.
Дышать сразу стало легче. Невидимые тиски ослабли. Василиса поднялась и увидела вереницу белых теней. Предки, которые не ушли на перерождение, а добровольно остались в Нави хранить род. От цариц, чьи портреты висят в тронном зале до тех, о ком память хранят лишь родовые книги. Много, очень много, и ни одного мужа, сплошь женщины. Но может так и должно быть у княжьей семьи? Или это только у них род такой странный?
«Иди к нам, иди, покажись».
И она пошла. Первый шаг еще дался с трудом, но каждый следующий легче. Кости под ногами рассыпались снежным прахом. Приблизилась и едва удержала вздох счастья.
— Мама? Но как, ты же… — Тень с почти забытыми чертами, смущенно развела руками.
«Сама поразилась… Порой удивительные русла прокладывает кровь через века. Иди вперед и не бойся».
Василиса коснулась кончиками пальцев материнской руки и сделала еще шаг.
«Слишком много лишних клятв. Освобождаю»! — раздался трескучий голос, и Василиса узнала старушку. Прабабка царя Василия, она присутствовала на обряде инициации и ратовала за то, чтобы Василису приняли в род. Увы. Бастарды без магии правителю ни к чему.
«Освобождаем, благословляем, напутствуем», — раздавалось раз за разом, пока наконец Щуры не кончились. В отдалении от них самой последней стояла молодая женщина. Похожая на Василису как сестра. Она смерила нежданную гостью долгим тяжелым взглядом. Потом протянула призрачную руку к девичьей груди, там, где под блузой грел накосник и замерла, прикрыв глаза. Всхлипнула. Эхом издалека прилетел стон: «Убей!» — тот самый, который Василиса слышала однажды во сне, когда Велимир притянул ее в Навь.
«Я носила то же имя… я тоже любила и подвела всех. Не повторяй моих ошибок… Помоги ему, прошу. Я покажу», — основательница рода взяла ее за руки, и белый мир Нави налился яркими красками. Василиса от неожиданности зажмурилась, а когда открыла глаза, то обнаружила себя перед грозным худощавым мужчиной в старинных одеждах.
Глава 8, в которой творится великое зло
— Девочка моя! — В стальном голосе, привыкшем скорее повелевать, чем ласкать, сквозила такая мягкость, которой Василиса отродясь не слышала. К горлу подкатил ком. Вот, казалось бы, какая разница, кто как кому говорит, а чувствуешь, что не к тебе это, и обидно, хоть плачь. — С возвращением. Выросла-то как. Похорошела. Словно яблоко наливное стала. О твоей красоте да мудрости по всей Гардарике молва идет. Знаешь, порой мне кажется, что я способен лишь сеять войну и пожинать тлен. Но гляжу на тебя и радуюсь… Двуликая, каким же я был глупцом, когда возжелал бессмертия! Отчего не понял сразу, что истинное оно в детях. Хвала небу, я наконец осознал это, и срок моей вечности подойдет к концу.
— Но, отец! — Слова выпорхнули так естественно, что Василиса задохнулась. Захотела коснуться пальцами губ, чтобы убедиться – именно они произнесли это так естественно и пылко. Но увы, тело не принадлежало ей. Она была зрителем, способным увидеть лишь то, что пожелала ей показать пращур рода.
Понять бы еще, что несут эти знания.
— Не начинай, дочь. Ты даже в самых страшных снах представить не можешь, насколько я стар, — мужчина провел ладонью по мягкой девичьей щеке. — Мы со Смородинкой правили первыми городами этого мира еще до того, как в него пришли маги.
— Ты злишься?
— Нет, Василисушка. Уже не злюсь. И не жалею. Так или иначе в моем бессмертии было не только плохое, но и хорошее. Твоя мать, например. Ты. Горыня-шельмец... А чародеи получили свое. Месть свершилась. Оставшиеся сами изничтожат себя. Мир закрыт. Эфир конечен. Еще пара сотен лет активного колдовства и великими волшебниками будут считать таких бездарей, как твой стремянной Иван. Ну не дурак ли магией лошадей чистить?! Неужто не знает, на что ему Мать-Земля руки дала?
Та, древняя Василиса, рассмеялась.
Расхохоталась перезвоном колокольчиков на ветру и не увидела взгляда из тьмы. Страшен был тот взгляд, ибо намешано в нем, словно в зеленом вине, столько, что и не разберешь, что к чему. Тут и зависть лютая, и тоска горькая, и любовь с обидой. Мнется в руках конская подпруга. Кривится лицо, наливается злобой, но скрыт Иван-дурак от отца с дочерью, оттого и льётся полноводной рекой их разговор, течет неспешно, размеренно.
— Отец, не обижай моего стремянного. Он верой-правдой служит мне уже столько лет. Да и Перун, хозяин Тридевятого царства, не бунтует с тех пор, как его сын в тальных[1] слугах ходит. Поговорить, кстати, о том хочу. Чтоб с каждого двора княжеского в замок Карачун детей брать. Пусть тут науки постигают, ратному делу учатся, да растут вдали от родительского влияния.
Мужчина одарил дочь кивком.
— Сделаешь. Для того тебя и призвал домой. Ты когда согласие Горыне дашь? Он все твои девичьи прихоти выполнил. Жар-птиц к нам в сад привез. Гусли-самогуды смастерил. При том каков хитрец! Я не удержался, заглянул внутрь. Магии в них нет, сплошные палочки да шестеренки.
— Было и третье желание, — произнесла Василиса еле слышно. Она знала самую заветную мечту отца. Знала и не могла понять ее. Каково приннать в неполные двадцать, что кто-то желает умереть? Тем более, когда этот кто-то — твой отец. Но понимать — одно, а принимать желание дорогого человека — совсем другое, поэтому она искала. Жениха просила. Даже под личиной орден героев основала. Целое поколение богатырей выросло, движимое одной лишь идеей, – найти Кощееву смерть. Но проклятый кинжал после битвы за Лукоморскую долину как сквозь землю провалился. Триста лет прошло со дня победы Коща над магами, а его оружие, легендарную Иглу, способную уничтожить душу без права на возрождение, так и не нашли.
— Было, — согласился Кощъ. — И Горыня его исполнил. Нашел Иглу. Поднимал руду болотную, а поднял Смерть мою. Вот везет в качестве подарка свадебного. Примешь жениха-то?
— Приму! — Руки вспотели так, что их пришлось вытереть о платье. — И согласие дам. Это что ж, теперь Пряху Двуликую на свадьбу звать?
— Сама придет, — было ответом.
Та далекая Василиса зажмурилась и пожелала, чтоб отец остался жив. Пообещала великой Макоши любую дань.
Глупо думать, что богам нужны обычные требы. Но человеческая глупость и благие душевные порывы ходят рука об руку, однако редко приводят к добру.
Дальше закружилось все, завертелось каруселью. Прилетел огненный пернатый змей князь Тугарский — Горыня. Прекрасный, как закатное солнце. Приехали и братья его: Смог и Фафни, привезли дары богатые, трофеи заморские. Среди них имелась и смерть Кощеева в сундуке кованом. Ударился об пол Горыня, обернулся добрым молодцем. Василиса кинулась на шею жениху, зарыла пальцы в каштан волос, вдохнула такой родной, такой любимый запах степи. И не поймет боярыня, то ли ее это влечение, то ли той другой, древней. Трется нежной щекой о щетину жесткую. И тихо-тихо, так, чтоб только им двоим слышно было, шепчет: «Да, да, да». Кому обещает, что? Неясно. И скинуть бы морок чужих чувств, но не хочется. И сладок обман, и горек, как тот сахар жженый.
Горыня с рук невесту не спускает. И уговоров не слышит, мол, не хрустальная девка, не расколется. Хохочет, кружит, щурит глаза золотые.
Долго тянуть не стали. Собрали свадебный пир. Под раскидистым дубом накрыли столы скатертями расшитыми, поставили яства невиданные, позвали гусляров да скоморохов.
Пришла и Макошь, богиня Двуликая в кичке красной. С налобника длинные бисерные нити свисают, мертвую часть лица прячут. Порадовались гости — знать, беда свадьбу стороной обойдет. Забыли, хмельные, что недолго полог откинуть.
Села Двуликая в тени да стала наблюдать. Любопытно ей, отчего так много нитей в одной точке сошлось. Неужто пряже конец, или то всего лишь узел хитрый, да новый виток? Тут и жених третье желание исполнил. И Север гордыню умерил. Вновь познал радость любви. Хоть бы и отцовской, но от этого не менее крепкой. Еще немного и совсем бы забыл, как Кощеем быть. Но натянуты нити бытия. Звенят. Расходятся далеко в стороны. Вплетают новых людей. Вот и дочка его во имя любви к отцу дала клятву глубокую, крепкую. Страшную. Не представляет, чем платить придется. Но поздно — обещание, данное Пряхе, не вернуть. Чуть дальше, у братин с медом, мнется Иван. Решится, нет? Решился, влил зелье. Закрутилось с новой силой веретено, разорвало одни нити вероятностей, сделало крепче другие. Только все не понять: то ли конец сказки, то ли самое начало.