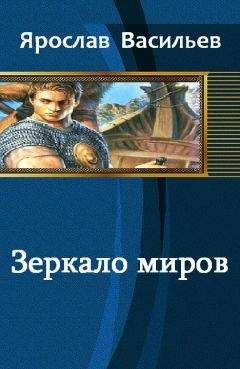Мервин Пик - Горменгаст
Протянув длинную руку, он поддернул толстые носки, в которые были заправлены штанины его брюк, потопал, распрямился, снова согнулся вдвое и окинул коридор неприязненным взглядом.
— Дрянное, продувное место. Причем безо всякой на то причины. Погибель человеческая — сказал он. — И все же, — он тряхнул белыми локонами, — это, в сущности говоря, неверно. Я не верю в сквозняки. Не верю в простуду. Я вообще ни во что не верю, ха-ха-ха-ха-ха! К примеру сказать, я и с вами не могу согласиться, не приемлю, знаете ли.
Его собеседник, молодой человек с длинными впалыми щеками, дернул головой, словно увидев наставленное на него дуло ружья. Затем приподнял брови, как бы говоря: «Продолжайте…», однако старик молчал. Тогда молодой человек возвысил свой ровный, бесцветный голос, как бы норовя пробудить мертвеца…
— Что значит, сударь, — вы не можете со мной согласиться?
— Просто-напросто не могу, — ответил старик, сгибаясь еще ниже и сцепляя перед собою ладони, — не могу, и все тут.
Молодой человек выпятил подбородок и вернул брови на место.
— Но я, знаете ли, еще ничего не сказал: мы с вами познакомились всего минуту назад.
— Возможно, вы правы, — ответил, поглаживая бороду, старик. — Вполне может быть, что вы правы, впрочем, наверное сказать не могу.
— Но говорю же вам, что я еще ничего не сказал! — Бесцветный голос прозвучал громче, глаза молодого человека приложили массу усилий, стараясь вспыхнуть, но то ли трут оказался сырым, то ли тяга слабоватой, да только ничего в глазах не затеплилось.
— Я ничего не сказал! — повторил он.
— А, вы об этом! — сказал старик. — Да оно мне и ни к чему. — Он издал низкий, чрезвычайно неприятный смешок умудренного всепониманием человека. — Я просто-напросто ничего не приемлю, вообще ничего. Возьмем, к примеру, ваше лицо. Неправильное лицо — как, впрочем, и все остальное. Жизнь удивительно проста, если смотреть на нее с этой точки зрения — ха-ха-ха-ха!
Негромкое, утробное удовольствие, сообщаемое старику его отношением к жизни, показалось молодому человеку безобразным, и он, вопреки своей природе — меланхоличности, невыразительному лицу, пустому голосу, тусклым глазам — осерчал.
— А я не приемлю вас! — выкрикнул он. — Я не приемлю нелепый угол, под которым вы сгибаете ваше полумертвое, только для живодерни и пригодное тело. Не приемлю вашей белой бороды, свисающей с подбородка, точно грязная морская трава… Не приемлю ваших крошащихся зубов… Не…
Старик был в восторге: утробное клохтанье его все длилось, длилось…
— Так ведь и я тоже, молодой человек, — просипел он. — И я тоже. Тоже ничего этого не приемлю. Видите ли, я не приемлю даже того, что нахожусь сейчас здесь, а если б и принимал, то не принял бы долженствования этого. Все до смешного просто.
— Вы просто пытаетесь быть циником! — воскликнул молодой человек. — Только и всего!
— О нет, — сказал коротконогий старик. — Я никаких таких быть не приемлю тоже. Если бы только люди отказались от стараний быть чем бы то ни было! Да и чем они могут быть, в конце-то концов, помимо того, чем уже являются — или являлись бы, если б я принял за факт, что они хоть что-то собой представляют?
— Мерзость! Мерзость! МЕРЗОСТЬ! — завопил впалощекий молодой человек. Угнетенные страсти его после тридцати проведенных в нерешительности лет нашли наконец выход. — Довольно, мы и так уже слишком долго провалялись в могиле, старая вы скотина, это там хорошо и правильно быть ничем — холодным и конченым. Но разве жизнь такова? Нет! Нет! Будем гореть! — вскрикивал молодой человек. — Сожжем нашу кровь на высоком костре жизни!
Однако старый философ ответил:
— Могила, молодой человек, вовсе не такова, какой вы ее себе представляете. Вы оскорбляете мертвых, молодой человек. Каждое ваше бездумное слово пятнает чью-то гробницу, уродует усыпальницу, возмущает грубым топотом покой смиренного могильного холма. Ибо смерть есть жизнь. Живо лишь то, что безжизненно. Разве не видели вы, как в сумерках спускаются к нам с холмов ангелы вечности? Еще не видели?
— Нет, — ответил молодой человек, — не видел!
Бородатый философ согнулся пониже и уставился на молодого человека.
— Как, вы ни разу не видели ангелов вечности с большими, как одеяла, крылами!
— Не видел, — ответил молодой человек, — и видеть не хочу.
— Для невежды не существует глубин, — продолжал брадатый старец. — Вы назвали меня циником. А как я могу им быть? — я ничто. В большом содержится малое. Но я вам вот что скажу: пусть Горменгаст — бессодержательный образ, пусть зеленые дерева, переполненные жизнью, переполнены на самом деле отсутствием оной, — но когда апрельский агнец поймет, что быть ничем — это больше, а не меньше, чем быть апрельским агнцем, — когда все это станет известным и признанным, тогда, о вот тогда… — Теперь он поглаживал бороду быстро-быстро. — …тогда вы приблизитесь к рубежам изумительного царства Смерти, где всякое движение совершается вдвое быстрее, где краски вдвое ярче, любовь великолепней вдвойне, а грех вдвойне пикантен. Кто, кроме человека дважды близорукого, не способен увидеть, что только в Потусторонности хоть что-то способно обрести Приемлемость? А здесь, здесь… — Он развел ладони, как бы отвергая земной мир. — Что есть приемлемого здесь? Здесь нет ощущений, никаких.
— Страдание и счастье, — сказал молодой человек.
— Нет-нет-нет. Чистой воды иллюзия, — возразил старец. — Вот в изумительном царстве Смерти Счастье безгранично. В сравнении с ним даже длящиеся месяц напролет танцы среди небесных лугов — ничто, решительное ничто. И пение человека, летящего верхом на огненном орле… пение из довольства сердца своего.
— А как насчет страдания? — спросил молодой человек.
— Люди изобрели идею страдания, дабы упиваться жалостью к себе, — прозвучало в ответ. — Но Истинное Страдание, которое мы узнаем в Потусторонности, — вот это штука стоящая. В том Царстве даже обжечь себе пальчик — значит пережить многое.
— А что будет, если я подожгу твою белую бороду, старый мошенник! — заорал молодой человек, зашибший в тот день ногу и так узнавший цену земным невзгодам.
— Что будет, если вы ее подожжете, дитя мое?
— Огонь истерзает твой подбородок, и ты хорошо это знаешь! — воскликнул юноша.
Презрительная улыбка, заигравшая на губах теоретика, оказалась для его собеседника непереносимой, и он, не сумев обуздать себя, схватил ближайшую свечу и подпалил бороду, мотавшуюся перед ним с вызывающим видом. Борода занялась быстро, сообщив ужасу и изумлению, обозначившимся на лице старика, нереальный, театральный оттенок, изобличавший самое что ни на есть истинное, пусть оно и было земным, страдание, что пронзило несчастного, когда он ощутил сперва в подбородке, а там и в щеках, жгучую боль.
Жуткий, визгливый вопль вырвался из его старого горла, и коридор мгновенно заполнили люди, точно они только и ждали за кулисами сигнала, чтобы выскочить на сцену. Голову и плечи старика окутали сюртуками и куртками, пламя сбили, но к этому времени нервный молодой человек со впалыми щеками уже успел куда-то удрать, и больше о нем никто никогда не слышал.
Пикзлак, Врост и ШплинтСтарика отнесли в его комнату, похожую на темно-красный ящичек: без ковра на полу, но с картинкой над камином, на которой сидела на лютике фея, рисуясь на фоне очень синего неба. Спустя три дня старик пришел в себя — но лишь затем, чтобы скончаться от потрясения через миг после того, как припомнил, что с ним случилось.
Среди присутствовавших в красной комнатке при кончине были и трое друзей старого обгоревшего педагога.
Они стояли в рядок, чуть ссутулясь, поскольку потолки в комнатке были низкие. Стояли ненужно близко друг к другу, так что при легчайшем движении их голов старые, черной кожи академические шапочки соударялись, некрасиво съезжая набок.
И все-таки то была трогательная минута. Они чувствовали, что великий источник вдохновения уходит от них. Перед ними лежал, умирая, учитель. До конца оставшись его учениками, они столь безоговорочно верили в небытность телесных чувств, что когда учитель скончался, что еще было им делать, как не оплакивать исток веры, навсегда их покинувший?
Головы троицы, накрытые черными кожаными шапочками, вытесняли ни в чем не повинный воздух с такой беспощадностью, будто лбы их, носы и подбородки принадлежали носовым фигурам кораблей, рассекающих незримые воды. Только ниспадавшие мантии, кожаные шапочки да кисточки, свисавшие с оных наподобие сероватых соплей, болтающихся под индюшачьим клювом, — вот и все, что было в них общего.
Пообок смертного одра находился низенький столик. Маленькая призма стояла на нем и бутылка из-под бренди с воткнутой в нее зажженной свечой. Только она и освещала комнатку, и все же красные стены полыхали безрадостным блеском. Головы трех Профессоров, примерно одинаково возвышавшиеся над полом, выглядели столь несхоже, что всякий, увидевший их, невольно задавался вопросом, к одному ли биологическому виду принадлежат их владельцы. Когда взгляд перебегал с одного из этих лиц на другое, возникало ощущение, какое испытывает ладонь, перескальзывая со стекла на наждак, а с наждака — на овсяную кашу. Наждачное лицо не представлялось ни более, ни менее интересным, чем стеклянное, но по его поверхности взгляду приходилось скользить замедленно — поросль, его покрывавшая, выглядела настолько грубой, рытвины, выходы костных пород, забитые всяким сором лощины и тернистые пустоши сулили такие опасности, что оставалось лишь дивиться, как взгляду вообще удается добраться с одного его конца до другого.