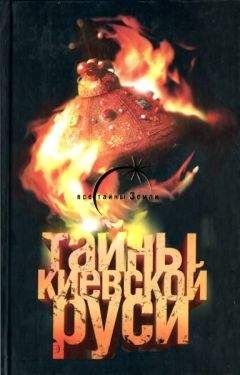Патрик Ротфусс - Страхи мудреца. Книга 2
Он остановился на желтой бутылке, ухватил ее за горлышко и поднес к губам. И принялся не спеша пить, беззвучно сглатывая.
— Эй, полегче! — сказал бородатый. — Мне-то оставь чуток!
Баст опустил бутылку и облизнул губы. И сухо, невесело хохотнул.
— Да, ты правильно выбрал бутылку, — сообщил он. — Это бузина.
— Чего-то ты не такой разговорчивый, как нынче утром! — заметил белокурый, склонив голову набок. — У тебя такой вид, как будто любимая собачка сдохла. Все нормально?
— Да нет, — сказал Баст. — Все не нормально.
— Ну, если он обо всем догадался, так это не наша вина! — поспешно сказал белокурый. — Мы немного подождали после твоего ухода, как ты и говорил. Но мы тут уже несколько часов ждем. Думали, ты не придешь.
— А, черт! — раздраженно сказал бородатый. — Так он все знает? Он тебя прогнал?
Баст покачал головой и снова запрокинул бутылку.
— Ну, тогда тебе жаловаться не на что, — белокурый потер голову и нахмурился. — Вот тупой ублюдок, поставил-таки мне пару шишек!
— Ну, он получил их обратно с лихвой! — ухмыльнулся бородатый, потирая большим пальцем костяшки рук. — Завтра кровью мочиться будет.
— Все хорошо, что хорошо кончается! — философски заметил белокурый солдат и пошатнулся, чересчур театрально взмахнув своей бутылкой. — Ты поразмялся. Я добыл выпить кой-чего вкусненького. И все мы неплохо подзаработали. Все счастливы. Все получили то, чего им больше всего хотелось.
— Я не получил того, чего мне хотелось, — ровным тоном ответил Баст.
— Ну, это пока, — сказал бородатый, сунул руку в карман и вытащил кошелек, который увесисто звякнул, когда солдат подкинул его на ладони. — Давай-ка поближе к огоньку, и поделим денежки!
Баст окинул взглядом круг, озаренный костром, даже не попытавшись сесть. И снова начал считать, тыкая пальцем в разные предметы: лежащий поблизости камень, полено, топорик…
Пашня, ветер,
Звон ведра.
Скука, холод,
Дым костра.
И указал на костер. Подступил ближе, наклонился и вытащил из него сук длиной в руку. Противоположный конец сука представлял собой тлеющую головню.
— Эгей, да ты пьяней моего! — заржал бородатый солдат. — Я совсем не это имел в виду, когда сказал «поближе к огоньку»!
Белокурый покатился со смеху.
Баст посмотрел на них сверху вниз. И тоже принялся хохотать. Это был жуткий хохот, рваный и безрадостный. Нечеловеческий смех.
— Эй! — резко перебил бородатый — он больше не смеялся. — Что это с тобой такое?
Снова полил дождь, порыв ветра швырнул тяжелые капли в лицо Басту. Глаза у него были черные и сосредоточенные. Новый порыв ветра раздул головню, и она вспыхнула ослепительно-оранжевым.
Светящийся уголь прочертил в воздухе огненную дугу: Баст принялся по очереди тыкать головней в солдат, считая:
Путник, пиво,
Камень, кладь,
Ветер, воды,
Вам не встать!
Когда Баст закончил, пылающая головня указала на бородача. Зубы Баста багровели в свете пламени. Он совсем не улыбался.
ЭПИЛОГ
ТРЕХЧАСТНАЯ ТИШИНА
И снова наступила ночь. Трактир «Путеводный камень» погрузился в тишину, и складывалась эта тишина из трех частей.
Наиболее очевидной была пустынная, гулкая тишина, возникшая из того, чего не было. Если бы шел дождь, он барабанил бы по крыше, бурлил в желобах, мало-помалу смывая молчание в море. Если бы в трактире ночевали любовники, они бы вздыхали и стенали, и молчание устыдилось бы и убралось восвояси. Играй здесь музыка… но нет, конечно, музыки тут не было. На самом деле, ничего из этого не было, и потому тишина никуда не девалась.
А откуда-то снаружи, из-за леса, слабо доносился шум далекой вечеринки. Пиликанье скрипки. Голоса. Топот башмаков и хлопанье в ладоши. Но этот шум был тоненький, как ниточка, ветер переменился и оборвал его, остался только шелест листьев да нечто вроде далекого уханья совы. А потом и они стихли, и осталась лишь вторая тишина, молчание ожидания, как будто кто-то вдохнул и забыл выдохнуть.
Третью тишину ощутить было не так легко. Пожалуй, пришлось бы прождать около часа, чтобы почувствовать ее в холодном металле десятка замков, крепко запертых, чтобы не пускать ночь внутрь. Тишина таилась в грубых глиняных кружках с сидром и в зияющих пустотах посреди общего зала, там, где прежде стояли столы и стулья. Она обитала в ноющей боли ушибов, которые расцветали многочисленными синяками, и в руках человека, который носил на себе эти синяки и теперь не без труда, стиснув зубы от боли, поднимался с кровати.
У человека были рыжие, словно пламя, волосы. Взгляд у него был темный и отстраненный, и он двигался в ночи ловко и уверенно, точно вор. Он спустился вниз. И там, за плотно закрытыми ставнями, вскинул руки, точно танцор, подался вперед и медленно сделал один-единственный идеальный шаг.
Трактир «Путеводный камень» принадлежал ему, и третья тишина тоже. Вполне закономерно, тишина эта была самой большой из трех: она окутывала две первые, заключала их в себе, — бездонная и безбрежная, словно конец осени, и тяжелая, как обкатанный рекой валун. То была терпеливая покорность срезанного цветка — молчание человека, ожидающего смерти.