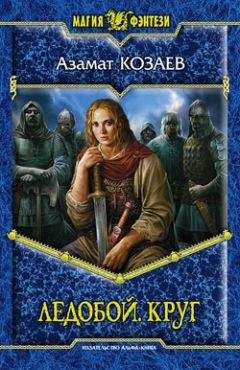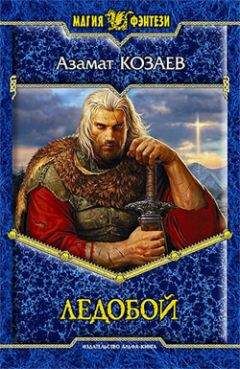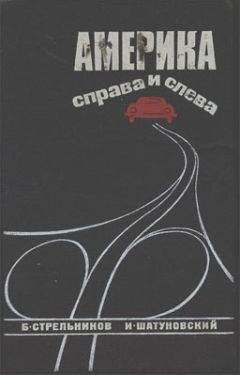Ледобой. Зов (СИ) - Козаев Азамат Владимирович
— Что нашёл? — Дыродел, отряхивась, прохромал к мачте, встал рядом.
— А мрак его знает, — угрюмо буркнул Моряй, кивая на стрелку. — Придём домой у Стюженя спрошу. Одного только не пойму — когда вражина успел поработать?
— Думаешь в этом дело? — купец бородой показал на стрелку.
— А то! Уверен, если поищем на других ладьях, найдём такие же! Эй, Кабан, как слышно? Все живы? Это хорошо. Подойди к парусу…
Для судилища выбрались на берег Озорницы. Что? Город должен продолжать работать? Работать, пока Сивого будут чехвостить за его мерзкие дела? Спокойно резать кожи, стучать молотом по раскалённной заготовке, вертеть гончарный круг пока будут судить того, кого считаешь величайшим ублюдком-храбрейшим воем во все времена? Нет уж дудки! Дудки, кстати, были — начало судилища возвестили тремя здоровенными охотничьими рогами. Для князя и бояр сколотили помостки, чтобы глядели на подсудимца сверху вниз. А пусть, поганец, бороду вверх задирает! Так ему! Не ровня. Знай, грязь подножная, своё место.
— Ишь чего удумали, — шептались в толпе, — судить его на том самом месте, где оттниров перемогли!
— Князь даёт понять, дескать, неприкасаемых нет?
— Да как же так-то? Или не вместе мы плечом к плечу полуночников разбили? Вот прямо тут?
— Хорошо хоть на плёс догадались не соваться! С плёсу Сивый побеждённым ни разу не ушёл!
Даже если бы закрыли ворота и разнесли по брёвнышку мосток, в городе никого не удержали бы, да что в городе — из окрестных сёл подошли. Те, что поухватистее да поумнее — ещё затемно, остальным только и осталось на заре уткнуться в самый хвост толпы да толкаться на дальних подступах и слушать соседей. Безрода на судилище вывели первым. Ещё затемно. Раньше всех. Даже до того, как для городских открыли ворота. Пусть ждёт своих судей. Не берестяной, не развалится. И уж таким хитрым образом всё устроилось, что никого из «стариков»-дружинных при нём в охранении не оказалось: одни только боярские да юнцы желторотые. Вот подтягиваются к месту судилища самые продуманные рукоделы и купцы ещё затемно, места занять поближе, а там заря ночную темень помалу размывает, и проступает из сумерек клетка из соснового тёса толщиной с голень. А клетка чёрная, смолой вымазана, а дневной свет осторожно снимает ночной мрак слой за слоем, будто грязь мокрой тряпицей, а в клетке лежит кто-то руки под голову, и до того, подлец, невозмутим, аж страже неловко сделалось. Вот кольнуть бы сволочь копьём в бок, ровно медведя, чтобы на ноги вздёрнулся на потеху толпе. Только нельзя. Запретили трогать. Ну разве что острым языком в него «швырнуть».
— Гля, опять без пояса! Рубаха болтается.
— Ага, только в те разы красная была.
— Тьфу, аж смотреть больно. Будто на безрукого глядишь.
— А не сбежит?
— Дурья твоя башка! Захотел бы сбежать — никто не удержал бы. Понимать надо, глухомань! Не абы кто! Злобожий сынок!
— Ага, такое провернуть — это тебе не чихнуть в пыльном сарае!
— Слыхал, опять беда приключилась? Говорят, на полуночи оттниры высадились!
— А я слыхал на полудне хизанцы озоруют!
— Вот не сойти мне с этого места, сам видел, как Перегуж дружину увёл. Да всё намётом, скорее-скорее!
И только в самую последнюю очередь, с первыми лучами солнца на свои места потянулись бояре и князья, как водится верхами. Каждому своё — этот сидит в клетке, без пояса, глядит снизу вверх, по мосту верховые наземь сходят, глядят сверху вниз, рассаживаются, будто на пиру, правая рука, левая рука, подальше-поближе, погуще-пожиже. По-хорошему на цепь нужно бы посадить пса шелудивого, только не дастся просто так, без суда убивать придётся. Когда с моста съехал Косоворот, его ухмылку можно было в горшок собирать — течёт по губам тяжёлая, тягучая, едкая, глаза люду жжёт, смотреть долго невозможно, отворачиваешься… Кукиш, проезжая мимо клетки, просто утробно оскалился и плюнул… Головач бросил в Безрода огрызок яблока, не попал… Лукомор высморкался да пальцы в сторону Сивого вытряхнул… Смекал самодовольно бросил: «Падаль!»
Отвада ехал, по сторонам не глядел, в сторону подсудимца даже головы не отвернул, а когда с клеткой поравнялся, всё, кто был на поляне, замерли. Что-то будет? Плюнет? Скажет что-то? Но князь проехал, ровно придорожную берёзу миновал, каких кругом сотни сотен. Спешился, степенно прошёл на своё место.
— Мой свояк соседится со Стюженем, — шепнул Гречан Хватку, шорник и гончар подсуетились загодя — выбрались за ворота ещё накануне, перед закрытием, да ночь в лесах и пересидели. — Говорит, своими собственными глазами видел, как подвели среди ночи коня верховному, тот в седло прыг, и нет его.
— Известно, чего засуетился, — гончар скрестил руки на груди, хотя тут скрещивай-не скрещивай: от того, что тебе по великой тайне шепнули на ухо, крылья на спине растут, аж рубаха трещит, вот так и взлетел бы надо всей толпой, которая знать ничего не знает, а ты — да. — Моровые в стадо сбились, на полудне бедуют. Их, болтают, уже под Сторожищем положили видимо-невидимо. Во как далеко забрели. Во какую силищу Сивый обрёл!
— А он с такой силищей не сбежит? Гляди, лежит, ровно на полянке под солнцем. Хоть бы хны ему.
Хваток, соглашаясь, мрачно покачал головой. Если, как говорили, Сивый в одиночку торговые поезда избивает, голыми руками людей пополам рвёт, да кровь, будто воду хлещет, ему эта клетка, как лосю щелчок пальцем по лбу. Пройдёт насквозь и не заметит. Как раз давеча Ромаха умным назвала, а тут, хочешь не хочешь, нужно лицо держать.
— Не знаю, как там насчёт сбежит, но, думаю, просто этим днём никому не будет.
А⁈ Каково⁈ Думаю… не просто… Это тебе не с упряжью возиться! Запоминай, колода, как сказал, при случае сумничаешь!
— Ещё бы! Не каждый день бояре мрут, ровно скотина забойная!
— Что? — Хваток рот раззявил от удивления: у Гречана тоже крылья растут?
— Не слыхал? Тю-ю-ю-ю, малой, эдак заработаешься, всё на свете проглядишь! Болтают, Длинноус помер. А перед смертью бредил и вышло, что он самый что ни есть младший брат князю! Сечёшь?
— Бредил?
— Ага! Признался во всех грехах, и проговорился, дескать эту тайну ему матушка на последнем издыхании поведала. Слюбилась с батюшкой Отвады, со старым князем, а мужу ничего и не сказала, а как помирать пора пришла, тяжкий грех душу придавил, крылья расправить не давал. Вот и скинула камень с души.
— Ну чего ты брешешь? — протянул кто-то сзади.
Гречан и Хваток оглянулись. За их спинами стоял каменотёс Кош и затылок скрёб, поглядывая то на одного, то на другого.
— А ты думал! — залихватски скривился Гречан. — Небось, целый день над камнями гнёшься, облизываешь да нюхаешь, у тебя вон каменная пыль на носу, а всё туда же, поправлять лезешь.
— Не-а, не брат он ему, а сын! Отвада ему как раз в отцы и годится.
Хваток и Гречан озадаченные переглянулись. Ну, пожалуй, такое возможно. Уж точно не полста ему, молодой был слишком. Если так, что выходит? Сын?
— Но если сын, тогда…
Что «тогда», Хваток не договорил. Охотничьи рога его перебили, и трубный зов унёс гулкий шепоток толпы, ровно ветер пыль. Одна только Озорница «рта» не закрыла — как текла, так и продолжила течь, как бормотала что-то своё, так и продолжила.
— Слушай меня, люд сторожищинский, народ боянский! — Отвада встал и повернулся к толпе. — Суд учиняем! Воеводу заставы на Скалистом острове видоки обвиняют в злодействах и душегубстве! Виноватят в разгуле мора и лиходействе. Всего столько набралось, что было бы у Безрода десять голов, и выйдет так, что на самом деле виноват, все десять оттяпали бы.
Хохотнули. Правда не громогласно и не все. Большинство просто зашумело, ровно не дышало до того, а теперь вздохнуло во всю мощь лёгких.
— Все вы знаете, в прошлую войну, плечом к плечу бились, вместе город от врага обороняли, но уж слишком обвинения тяжелы.
— Гля, князь на него и не смотрит, — шепнул Кош, а Хваток и Гречан, не сговариваясь, поёжились, будто колючих семян шиповника обоим за шиворот сунули.