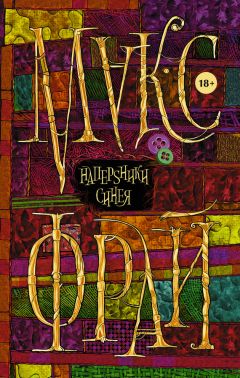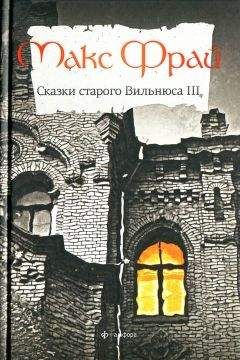Макс Фрай - НяпиZдинг, сэнсэе
Но я не о том совсем, конечно.
А о другом.
О том, что недавно мне на глаза попалась книга Лунгиной «Подстрочник». И в самом конце книги нашлась история о том, как и почему Лиля Лунгина с мужем попали на виллу Вальберта.
Они, оказывается, получили стипендию по ходатайству Михаэля Энде, автора «Бесконечной истории», с которым Лиля Лунгина вступила в переписку, потому что очень хотела перевести и издать его книгу в России, а денег на это не было. И сперва она получила ответ от издательства, у которого были права, а потом – хлоп! – и приглашение пожить на вилле под Мюнхеном.
Лиля не так хотела эту стипендию, как познакомиться с Михаэлем Энде. Ей все говорили, что это невозможно, он живет затворником, ни с кем не встречается. Но он ей все-таки позвонил, и они встретились. И чувствовали себя так, словно знакомы всю жизнь. Михаэль обещал вскоре позвонить, но надолго пропал, наконец всё-таки позвонил – уже из больницы. Сказал – такие дела, но меня можно навестить. Навестили.
А потом Михаэль опять не звонил очень долго, вернее, уже никогда больше не звонил, потому что умер – вот прямо пока Лиля с мужем сидели на вилле и ждали его звонка.
Я теперь знаю, что старики, с которыми мы поменялись комнатами на вилле Вальберта, вот прямо тогда обрели одного из самых близких друзей в своей жизни, два раза с ним встретились, говорили взахлеб обо всём сразу, а потом получили известие о его смерти и уехали.
Это какая-то поразительная штука, когда тебе вдруг рассказывают, в тени каких событий тебе довелось постоять много лет назад.
И о том, что на самом деле произошло в то время и в том месте, где лично для меня по ряду причин (в основном непроговариваемого и почти недоступного аналитической обработке свойства) закончилось изобразительное искусство и начался текст.
* * *Когда человек говорит, что все уже было, он просто жалуется, что ничего еще толком так и не было.
* * *Когда я вырасту, я хочу быть умеренно богатым бездельником, который ничего никому не должен, включая Небесную Канцелярию и самого себя, для которого единственное «надо» – ежедневный душ, да и то, если неохота, можно пропустить. Который может просто бесцельно и почти безмысленно слоняться по улицам города, а как надоест, уехать в лес, или к морю, или в другой город и там продолжить душеполезное свое занятие.
Всё это пошло бы мне впрок. Если кто-то из людей и способен правильно распорядиться бездельем, тишиной и свободой (которая равна не просто одиночеству, но никомуненужности), то этот, условно говоря, человек – я.
Но вместо этого я сижу по самые уши в кошках, друзьях, цветах и дурацких обязательствах, торгую пеплом своего внутреннего молчания (плоховато торгую, но, положа руку на сердце, кто вообще справился бы со столь причудливым товаром), дурацкий падший ангел в поисках метафизической зелёнки для разбитой при падении коленки, изо всех сил держу окружающую реальность, как аэрофобы, вцепившись в подлокотники кресел держат самолет, чтобы не рухнуло вотпрямщас, дальше не загадываем.
Поэтому вотпрямщас над городом светит яркое солнце, по натянутому надо мной белому тенту стучит дождь, вдалеке гремит гром, ветер сдувает со столов не только картонные стаканы, но и металлические пепельницы, рядом хохочут укрывшиеся от дождя немецкие туристки, им, как я понимаю, лет триста пятьдесят на четверых, полёт нормальный.
Дальше не загадываем, конечно.
Конечно.
* * *Когда я думаю о литературе (гораздо реже, чем могло бы показаться, чего о ней думать, прыгать надо), так вот, когда я о ней всё-таки думаю, я думаю о книгах, которые читают люди в больницах. Особенно в таких непростых, страшных больницах – ну, вы знаете. И дома в кровати. Неважно, на самом деле, где. Что читают люди, когда сильно болеют, точка.
Понятно, что всё разное, понятно, что зависит это чаще от того, кто к чему привык, кто как умеет развлекаться (и отвлекаться).
Но всё равно, мне очень важно, что читают люди, когда хотят не умереть.
Если бы был хоть какой-то смысл устраивать литературные пузомерки (нет такого смысла), это – единственный критерий, к которому можно прикладывать портновский метр: как часто читают эту книжку люди в больницах? И сколько тех, кто читал эту книжку, остались в живых? А скольким стало немножко меньше страшно? А скольким стало не страшно совсем?
…И ведь не то чтобы я такой уж гуманист. Но меня совершенно завораживает победа над смертью. Когда маленький смехотворный комочек нежных, ненадёжных кишок – хоп! – и вдруг побеждает смерть. Понятно, что ненадолго. Понятно, что успех хрен закрепишь. Но выиграть всего один раунд у такого тяжеловеса – это уже немыслимо. Невозможно. Невообразимо. Ради этого, может быть, вообще все. Ну, или многое.
И вот люди в больницах. Слабые, перепуганные вусмерть, в обстановке этой, как будто специально созданной для дополнительных мучений. Читают. Книжки. Дурацкие и не очень, всякие. И некоторые так зачитываются, что забывают, что надо страдать и бояться. А потом даже как-то упускают возможность умереть в страхе и муках. Понятно, что будут потом другие возможности. Но пока – нет.
Для меня это очень важная задача литературы. Возможно, не единственная, но очень важная – именно для меня, сегодня, сейчас, всегда.
* * *Когда-то мне удалось увидеть пьесу «Враги» Яромира Хладика. И мне, помню, совершенно не с кем было ее обсудить, разве только соответствующий рассказ Борхеса, но при чем тут рассказ.
Я с тех пор живу, зная, что я каким-то чудесным образом и есть тот самый тайный зритель, для которого старался драматург, и Борхес наверняка знал, что кто-нибудь из его читателей не просто прочитает рассказ, а увидит пьесу, иначе зачем вообще все.
И то же самое было с романом, описанным в замаскированном под рецензию рассказе Борхеса «Приближение к Альмутасиму». То есть, я огромные фрагменты до сих пор помню – не рассказа, а именно романа. Не наизусть, конечно, а так, в общих чертах. Много позже некоторые страницы «Арабского кошмара»[3] поразили меня сходством, причем стилистическим, как будто один и тот же переводчик… – и только потом до меня дошло, что откуда бы тут взяться переводчику.
Удивительно всё-таки, что до сих пор мне как-то в голову не приходило, что об этом можно поговорить. И, тем более, написать. Надо же.