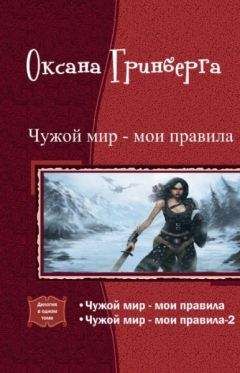Ник Перумов - Черная кровь. Черный смерч
– Да уж знаю, как ты с ней разговаривал. На тебя взглянуть, и слепому всё ясно. Нарочно с сирином сцепился, чтобы потом тут с Векшей любезничать. Давай, любезничай, я мешать не стану. Меня сегодня дед Стом позвал смотреть, как они рой в колоду сажать будут. Тоже придумали, нет чтобы попросту найти пчёл и мёд забрать, так они борты в старых колодах ладят и пчёл туда сажают, чтобы потом знать, куда за мёдом идти. Всё-таки, что ни говори, дикие они люди.
Удивительным образом после этого разговора Таши уже не мог просто ни о чём болтать с Векшей. Слова получались какие-то натужные, вымученные. И Векша тоже всё чаще молчала, старательно рукодельничая над чем-то невидимым Таши. Как-то Таши спросил, чем она так увлечена, но Векша ответила уклончиво:
– Вот кончу работу и покажу, а прежде времени глазеть не след.
По счастью, Таши через пару дней начал вставать, и ему больше не требовалась сиделка.
Как раз к этому времени Векша закончила свою работу.
– На вот, хотел посмотреть – смотри! – с гордостью произнесла она, разворачивая перед Таши что-то серовато-пёстрое, составленное из мельчайших перьев. – Видишь, как получилось!
– Да что же это? – Даже увидев сюрприз, Таши не мог понять, что ему показывают.
– Не узнаёшь? Да это же твоя птица сирин! Видишь, какая накидка получилась? Подаришь своей невесте – люди ахнут. У вас, поди, такого и не видывали.
Таши знал, что по праздникам женщины из рода лосося наряжались в накидки из птичьих шкурок. Как они делались, Таши, разумеется, не знал, хотя обычай такой ему нравился.
– Ну-ка, примерь, – предложил он, – хочу посмотреть, как это на живом человеке выглядит.
Векша вскинула руки, и накидка словно сама облекла её фигуру. Тонко выделанная шкурка сохраняла форму хищной птицы, крючковатый клюв, умевший так безжалостно рвать живое тело, располагался как раз надо лбом. Пуховые, невзрачные, на первый взгляд, перья складывались в удивительно сложный узор, переливавшийся всеми оттенками серо-серебристого.
– Ты не Векша, – восхищённо произнёс Таши. – Ты совушка. И глаза зелёные, как у совы… Только нос не крючком к земле загнут, а в небо смотрит. И ресницы у тебя… я как-то сразу не углядел… они же у тебя прозрачные, а длиннющие – ни у кого таких не видал. Ей-слово, ты в этой накидке настоящая красавица!
– В такой обновке любая красавицей покажется, – смущённо улыбнулась Векша. – Птицы сирина ни у кого во всём племени нет.
– Не-ет… – протянул Таши. – Любая такую вещь надеть не сможет. Она только тебе в самый раз подходит. И к волосам подходит, и к глазам, и к ресницам. А главное, кому ещё носить такую красоту, как не мастерице? Вот и носи, я её тебе дарю.
– Как же это… – Векша зарделась, покраснев так ярко, как умеют только беловолосые дети лосося. – Это же… я не могу такой подарок взять… – Векша одновременно пыталась улыбнуться и часто мигала, стараясь согнать с глаз непрошеные слезы. – Это же твоё, невесте подаришь…
– Ей я найду что подарить, – проговорил Таши, отчего-то раздосадованный некстати прозвучавшим напоминанием о Тейле. – А это – тебе. Берёшь?
– Ой, мамочки!.. – тонко протянула Векша, осторожно, словно впервые, касаясь рукой мягких перьев. – Что же это на свете деется?.. – И словно в воду прыгала, сказала:
– Беру!
Таши и сам не понимал, что с ним творится. Нет, он ничуть не изменился и в чувствах своих твёрд. Он любит Тейлу, и всё в его жизни замечательно. Тейла – самая красивая девушка в селении, да и во всём мире, наверное. К тому же дочь вождя. Волосы у неё тёмные, а не конопляная пакля, из какой вьют верёвки на неводы. И нос – тонкий, прямой… а то у некоторых такой носишко, что без прищура и не разглядишь. И глаза карие, словно у испуганной оленухи. И ресницы – как углем выкрашены, всему миру напоказ, а не только для одного человека, что вблизи смотреть будет. Никого нет на свете красивее Тейлы… Вот только думается о ней отчего-то спокойно. Не горит сердце. Смурно на душе: преодолел несчастный влюблённый все препятствия, отогнал соперников, мнимых и истинных, даже грозного отца заставил смириться и загодя дать согласие на брак, и теперь – не к чему стремиться и ничего больше не нужно. И думается почему-то не о любимой невесте, а о чужой беловолосой девчонке. И вспоминается не Тейла, а удивлённый взгляд зелёных глаз.
Хорошо всё-таки, что скоро уходить домой, и вряд ли он ещё когда-нибудь встретит лесную совушку. И почему-то впервые радовала душу мысль о том, что Тейле до посвящения ещё целый год ждать, и этой осенью свадьбы быть ну никак не может.
* * *
Казалось бы, много ли – месяц мирной жизни, а в посёлке на берегу Великой уже поверили, что отогнали долгогривых навек, так, что больше не сунутся. Вечерами охотники заговаривали о загонной охоте. Всё лето с самой весны неисчислимые стада антилоп, лошадей и туров паслись в степи по левому берегу Великой, а на зиму откочёвывали на закат, переплывали реку, останавливаясь на островах. Настоящая охота, конечно, начиналась осенью, когда зверь шёл через реку. В это время запасались копченья на всю зиму, да и квашеное мясо закладывалось в ямы. Зато летом готовились не просто запасы, а наедки праздничные, приготовленные особо. В степи сторожкого зверя так просто не возьмёшь, и его караулили на солёных озерцах, которых немало встречалось в Завеличье. Шеренги загонщиков гнали табуны на засевших в укроминах бойцов. Порой для такого дела собак перевозили на тот берег, и псы, обычно людей сторонившиеся, в эти дни сами бежали к плотам, понимая, что предстоит совместная охота.
Стрелы на загнанных зверей – сайгу, лошадь и даже тура – не тратили, летящего вихрем коня стрелой, поди, и не остановишь, только зря подранка по степи отправишь гулять. Первое оружие в таком деле – боло. Захлестнуть метким броском ноги присмотренному зверю, рывком опрокинуть наземь, а там уж добивать копьём, ножиком, а то и просто заострённым рогом. Бывало, что до полусотни голов за одну охоту взять удавалось. Собаки после такого путешествия возвращались гладкие, и на помойках, отнесённых за городьбу, в скором времени появлялись большелапые щенки.
Мясо, добытое во время облавной охоты, вымачивали тут же в солодкой озёрной воде, а затем коптили терновниковым дымом, не ленясь и полыни подбросить, и всякой иной пахучей травы, которой всегда было в округе довольно.
Вообще-то соль люди зубра не ели, а морскую горькую воду так и вовсе почитали поганой, но тут – особое дело. Озёрная соль – белая, горечи в ней нету, и во всякую дальнюю заготовку она годится. Потом вымочишь солонинку и так ли нажористо выходит, не хуже свежатины. Недаром слова «соль» и «сладость» от общего корня произрастают. Опять же икру солили, в весеннюю бескормицу осетровой икоркой спасаться – самое милое дело. Вроде и немного съел, а сыт.