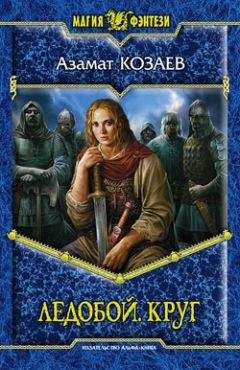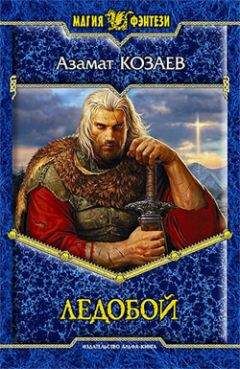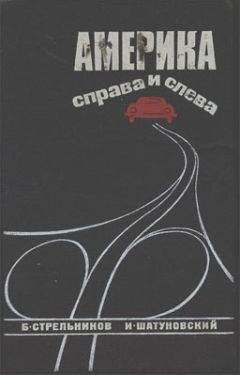Ледобой. Зов (СИ) - Козаев Азамат Владимирович
— А-а-а-а, я понял, — Длинноус обернулся к своим, мотнул головой на Сивого, дескать, вы только гляньте на это чудо. Дружинные гоготнули. — Спросонья нашим хлебородам показалось, что солнце встаёт на небе для их удовольствия, вечерние зори сменяют утренние исключительно для услады их глаз, дожди льют вот только чтобы пахарёк одобрительно кивнул, а Длинноус, не самый последний, кстати, рубака, должен на задних лапках бегать, рушники подавать землеройкам! Так я тебе растолкую, что почём на этой земле!
Длинноус едва на нос Безрода не нанизал. Всё так же крепко держал Сивого за грудки, тот лишь чуть отстранился, насколько позволили синяя рубаха и верховка.
— Вы тупое, безмозглое стадо, которое живёт одним только пузом! Вам всё равно, что происходит за деревенской околицей! Придут оттниры или ещё кто, вы забьётесь под лавки и ни один из вас не выйдёт биться за Боянщину! Только боярство, как становой хребет, держит нашу сторону единой! Только мы!
Длинноус уже давно орал, слюни летели во все стороны, но Безрод лишь глаза прищурил и всё также тянулся назад, подальше от разверстой пасти Длинноуса. Но боярин завёлся, ровно скаковой конь, и униматься не собирался.
— Нет у овец ничего своего! Не может быть у пастушьего пса золота и прочего добра! Вам положено только самое необходимое, чтобы с голодухи не сдохли, всё остальное наше! Наше! Тех, кто с мечом в руке за страну встает и кровь проливает за то, чтобы милые твоему сердцу хлебороды спокойно копались в грязи!
Сивый перестал усмехаться, губы медленно стянулись в одну линию, он прекратил отстраняться, и Длинноусу самому пришлось податься назад. Не целоваться же в самом деле.
— Нет больше у вас ничего своего и не было никогда! Просто не говорили вам! Вроде колыбельную на ночь пели, дабы уснула детка спокойно! Ты понял, придурок? Чтобы спокойно ложились и радостные просыпались! Думали, есть межа с одной стороны которой лежит мое, а с другой — боярское? Вот это видел? — снял одну руку с Безродовых одёжек, сложил фигу с длиннющим средним пальцем в «окошке» и сунул Сивому под нос.
Дружинные разоржались. А он вовсе не страшный! Вон гляди, весь подсобрался, съёжился, колени трясутся, того и гляди в порты наложит. Тут уж не будь тупицей, держи нос по ветру, вовремя встань с наветренной стороны. Вояка! А шуму-то, шуму! Сивый то, Безрод это! Да заяц этот ваш жуткий Сивый!
— Нет, не было и не будет межи крепкой, ровно каменная стена, за которой пахарь сможет соком наливаться, как ягода! Дошло? Мы ту межу в любой день подвинем! Не может быть у тупой скотины ничего своего! Вас же пасти нужно, ровно стадо! Да мы уже ту границу подвинули! Мы её вообще стёрли к Злобожьей матери! Всё ваше теперь станет наше. Оно вам не нужно! А знаешь, что будет дальше?
Длинноус вошёл в раж, Безрод вопросительно коротко хмыкнул, чуть раскрыл глаза.
— Любой пёс может найти кусок золота. Любому пахарю может случайно упасть с неба на тупую башку соболятница. И что, оставить золото блохастой твари? Вам что ли соболей оставить? Вас всякий раз обыскивать что ли, укрысили добро или нет? — боярин понизил голос и едва не шёпотом выдохнул Сивому прямо в ухо, будто кто-то мог подслушать, а это такая тайная тайна, что только держись. — Чем всякий раз рыскать да отбирать, лучше сразу объявить вас рабами, и оп… что нашёл, забирай. У вас же ничего не может быть! Погоди, скоро объявим.
— А в нужнике золотом начнём ходить, — Безрод усмехнулся, — поставишь рядом дружинного с заступом?
Длинноус вымерз, будто топорищем по темени получил, вот-вот свалится. Взгляд его обессмыслился, краснобай даже дыхание на время затаил, а когда сглотнул натужно, да обнаружил дыхание, потрясённо присвистнул и повернулся к своим.
— Опа! Да тут, я гляжу, всё безнадёжно. Думал, сам воевода, почти боярин, уж к нам-то всяко ближе, чем к землероям. По простоте душевной полагал, что сам хотел Большую Ржаную к рукам прибрать, а я такой нехороший игрушку из рук вырвал. А тут вон как! «Начнём ходить золотом», «к нам приставишь»… Да приставлю! За коровами же подбираете?
Безрод молча ковырял взглядом лоб Длинноуса, чуть повыше бровей и медленно перемалывал челюстями орех.
— Самое страшное во всём этом то, что вы всё понимаете, — боярин брезгливо оскалился. — Знаете, что не ваше, и всё равно тайком тащите! Знаете, что должны отдать золото, а хороните по амбарам да овинам! Знаете, что сами ни на что не годитесь, а в мою сторону шипите, ровно голодные коты. Уклад рушите!
— То есть, летописный уклад сломали мы?
— А кто, придурочный? Кто? У моего деда пахарь золото не воровал! Просто не смел!
Сивый щёлкнул орешек, поднёс пальцы к лицу, сдунул скорлупу и труху — Длинноус невольно прикрыл глаза — бросил ядрышко в рот.
— Скотина… золото… становые хребты… Я не про то. Зачем. Спалил. Большую. Ржаную?
И тут Длинноус растерялся. Малость ошалевший он повернулся к своим. Этот и правда такой тупой, что ничего не понял? Это с него Отвада пыль сдувает? Полдня тут распинаешься, глотку рвёшь на студёном полуночном ветру — мрак его побери, лето же! — пыль глотаешь, труху ореховую, а у этого глаза нездешние, бледные какие-то и несёт чушь несусветную.
— Ты меня вообще слушал, остолоп сивый?
Безрод немного опустил взгляд, со лба на брови — у этого на лбу чирей приметный, взглядом удобно держаться — до глаз осталось совсем немного. Длинноус что-то почуял, между век у сивого придурка, кажется, что-то блеснуло, а потом… под руками загудело сильнее прежнего и бить стало, ровно голыми руками боевого пса держишь, а тот вертится, запястья к Злобогу выламывает. И поколачивать начало. Полуночный ветер озноба за шиворот щедро насыпал что ли? И это называется лето?
— Повинись перед людьми. Подними Ржаную заново. И я забуду, — шепнул Сивый Длинноусу на ухо, забросил ядрышко в рот, захрустел.
Не-е-е-т, эти языка не понимают. Таких топить нужно, ровно котят! Боярин отпустил недоумка, сдал несколько шагов назад и в сторону, резко повернулся к Туго и коротко кивнул.
— Вали, гада! — рявкнул Длинноусов воевода.
Только ещё раньше того, как четыре стрелы сорвались разом с тетив, что-то неприметное, взвихрив облачка дорожной пыли, размытой молнией порскнуло меж коней. Странное дело: разглядеть ничего не получилось — ну мазнуло синее пятно около лица — только перед глазами каждого из четырёх стрелков осталась картинка. Одна. Неподвижная. Ровно на воротах красками расписали: Сивый в воздухе висит, растянут, будто бежит, тело напряжено, лапа вперёд вытянута, пятерня растопырена, здоровенная, такой лишь руки из плеч дёргать… И ну к Злобожьей матери такую пятерню у лица! И вся беда оказывается в том, что не спрашивают, хочешь или не хочешь — просто лошадиной тягой рвут из руки лук, пальцы разжать не успеваешь, ну и сворачивает суставы к мраку. А ты орёшь, а дерево трещит, и не поймёшь, что ломается, пальцы или лук? И потом собственный конь, мало на дыбы не встав, срывается куда-то стрелой — странное дело, с тетивы твоего лука должна была сорваться всамделишная стрела, а вместо этого, после шлепка, оглушительного, как щелчок плетью, к дальнокраю стрелой уходит конь. И все это четырежды — четыре лука ломаются почти одновременно, четыре коня снимаются намётом к дальнокраю и тоже едва не разом.
Щурястый Туго сделался большеглаз, как девица — каждое око стало круглым и даже больше ложечного хлебала. Больше выросла только дыра меж усами и бородой, только не идёт крик. Воевода рот разевает, да всё вхолостую, будто крышку с кувшина сковырнуть забыли, а вверх дном уже перевернули и воду вытряхивают. И глаза пучит. Веки уж задвигать некуда: сверху брови, снизу скулы.
— Длинноус, Длинноус, — Безрод говорил со спины, прямо в ухо, низким шёпотком, и если от холодного ветра мурахи разбежались по всему телу, от этого голоса рванули обратно, собрались и тянущей болячкой засели где-то под левой лопаткой, — услышь, наконец. Побереги людей.
Он стоял за спиной, но Длинноус будто затылком видел — сивый выродок с укоризной качает головой. И когда, замерев и затаив дыхание, ждёшь продолжения, вроде: «Ай-ай-ай, как некрасиво гостей стрелами тыкать, а ещё вековечный уклад хранить взялся!», откуда-то спереди прилетает конский топот. А потом понимаешь, что выглядишь не лучше Туго: сивая сволочь ушла на целый перестрел, а пыль подкопытная вот только-только по конские колени выросла. Т-твою мать!