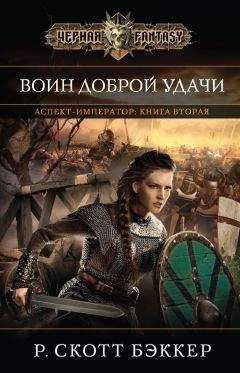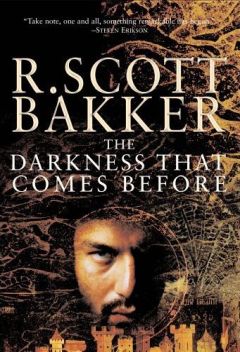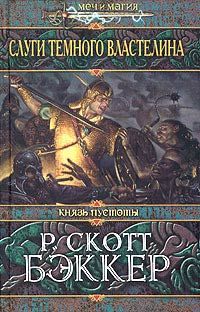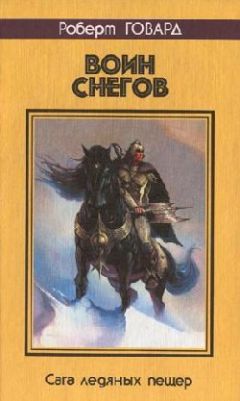Р. Бэккер - Воин кровавых времен
И воинство это шло на Шайме, цитадель кишаурим. Кишаурим!
Анасуримбор Моэнгхус был кишаурим.
Вопреки непомерным амбициям дунианина, его план, похоже, работал. В мечтах Найюр всегда шел за Моэнгхусом один. Иногда он убивал его молча, иногда — с какими-то словами. Всегда смерти ненавистного врага сопутствовало много крови. Но теперь все эти мечты казались ребяческими фантазиями. Келлхус был прав. Моэнгхус явно был не тем человеком, которого можно просто зарезать в переулке; он наверняка сделался крупной величиной. Властителем. Да разве могло быть иначе? Он ведь дунианин.
Как и его сын, Келлхус.
Кто скажет, насколько велико могущество Моэнгхуса? Конечно же, ему подвластны кишаурим и кианцы. Но есть ли его пешки в Священном воинстве?
Служит ли ему Келлхус?
Послать к ним сына. Есть ли для дунианина лучший способ уничтожить врагов?
Во время советов у Пройаса кастовые дворяне-айнрити уже начали мгновенно замолкать, едва лишь раздавался голос Келлхуса. Они уже наблюдали за ним, когда думали, что он погружен в свои мысли, и шептались, когда думали, что он не слышит. При всем их самомнении, эти вельможи уже считались с ним, словно он обладал чем-то очень нужным. Каким-то образом Келлхус убедил их, что стоит выше обыденности и даже выше необычного. Дело было не только в том, что он заявил, будто, находясь в Атритау, увидел Священную войну во сне, и не только в его гнусной манере говорить так, словно он отец, играющий на слабостях и тщеславии своих детей. Дело было в том, что он говорил. В правде.
— Но Бог благоволит к праведным! — однажды воскликнул во время совета Ингиабан, палатин Кетантейский.
По настоянию Найюра они обсуждали, какую стратегию может применить Скаур, сапатишах Шайгека, для победы над ними.
— Сам Сейен…
— А вы, — перебил его Келлхус, — вы праведны?
В Королевском шатре воцарилось странное, бесцельное ожидание.
— Да, мы праведны, — отозвался палатин Кетантейский. — Если нет, то что, во имя Юру, мы здесь делаем?
— Действительно, — сказал Келлхус. — Что мы здесь делаем? Найюр заметил краем глаза, как лорд Гайдекки повернулся к Ксинему; взгляд у него был обеспокоенный.
Насторожившись, Ингиабан решил тянуть время и пригубил анпои.
— Поднимаем оружие против язычников. Что же еще?
— Так мы поднимаем оружие против язычников потому, что праведны?
— И потому, что они нечестивы.
Келлхус улыбнулся, сочувственно, но строго.
— «Праведен тот, в ком не находят изъяна на путях Божьих…» Разве не так писал Сейен?
— Да, конечно.
— А кто определяет, есть ли в человеке изъян? Другие люди? Палатин Кетантейский побледнел.
— Нет, — сказал он. — Только Бог и его пророки.
— Так значит, мы не праведны?
— Да… То есть я хотел сказать — нет…
Сбитый с толку Ингиабан посмотрел на Келлхуса; на лице его читалась ужасающая откровенность.
— Я хотел… Я уже не знаю, что я хотел сказать!
Уступки. Всегда добивайтесь уступок. Накапливайте их.
— Тогда вы понимаете, — сказал Келлхус.
Теперь его голос сделался низким и сверхъестественно гулким и шел словно со всех сторон одновременно.
— Человек никогда не может назвать себя праведным, господин палатин, он может лишь надеяться на это. И именно надежда придает смысл тому, что мы делаем. Когда мы поднимаем оружие против язычников, мы не жрецы перед алтарем, мы — жертвы. Это означает, что нам нечего предложить Богу, и потому мы предлагаем самих себя. Не обманывайтесь. Мы рискуем душами. Мы прыгаем во тьму. Это паломничество — наше жертвоприношение. И лишь впоследствии мы узнаем, выдержали мы это испытание или нет.
Присутствующие загомонили, выражая явное согласие с Келлхусом.
— Хорошо сказано, Келлхус! — провозгласил Пройас. — Хорошо сказано.
Все умеют смотреть вперед, но Келлхус каким-то образом умудряется видеть дальше прочих. Он словно занимает высоты каждой души. И хотя никто из айнритийских дворян не посмеет заговорить о Келлхусе в таком ключе, они — все они — чувствуют это. Найюр уже видел в них первые признаки благоговейного трепета.
Трепета, делающего людей маленькими и незначительными.
Найюр слишком хорошо знал все эти потаенные чувства. Следить за тем, как Келлхус обрабатывает этих людей, было все равно что наблюдать за позорной записью собственного падения от рук Моэнгхуса. Иногда Найюру казалось, что он сейчас не выдержит и крикнет, так ему хотелось их предостеречь. Иногда Келлхус вел себя так мерзко, что пропасть между скюльвендом и айнрити грозила исчезнуть — особенно когда дело касалось Пройаса. Моэнгхус играл на тех же самых уязвимых местах, на том же тщеславии… Если у Найюра общие беды с этими людьми, сильно ли он от них отличается?
Иногда преступление все равно кажется преступлением, как бы смехотворно и нелепо ни выглядела жертва.
Но лишь иногда. По большей части Найюр просто наблюдал за Келлхусом с холодным недоверием. Он теперь не столько слушал, как говорит дунианин, сколько смотрел, как он рубит, высекает, вырезает и гранит, словно этот человек каким-то образом разбил стекло языка и сделал из осколков ножи. Вот гневное слово, чтобы могла начаться размолвка. Вот обеспокоенный взгляд, чтобы можно было подбодрить улыбкой. Вот проницательность, чтобы напомнить — правда может ранить, исцелять или поражать.
Как легко, наверное, было Моэнгхусу! Один зеленый юнец. Одна жена вождя.
В память Найюра вновь вторглись картины Степи, оцепенелой и сухой. Женщины, вцепившиеся в волосы его матери, царапающие ей лицо, бьющие ее камнями и палками. Его мать! Вопящий младенец, которого вытаскивают из якша и швыряют в очищающее пламя, — его белокурый единоутробный брат. Каменные лица мужчин, отворачивающихся от его взгляда…
Неужто он допустит, чтобы все это произошло снова? Неужто он будет стоять в стороне и смотреть? Неужто он…
Все еще лежа рядом с Серве, Найюр опустил глаза и с потрясением осознал, что раз за разом всаживает нож в землю. Белый, словно кость, тростник циновки разорвался, и в ней зияла дыра.
Найюр, тяжело дыша, тряхнул черной гривой. Опять эти мысли — опять!
Угрызения совести? Из-за кого — из-за чужеземцев? Беспокоиться за этих хныкающих павлинов? И в особенности за Пройаса!
«При условии, что прошлое остается сокрытым, — говорил ему Келлхус во время их путешествия через степи Джиюнати, — при условии, что люди уже обмануты, какое это имеет значение?» И в самом деле: какое ему дело, что Келлхус дурачит дураков? Найюру было важно: не дурачит ли этот человек его? Вот острое лезвие, от которого непрестанно кровоточили мысли. Действительно ли дунианин говорит правду? Действительно ли намеревается убить своего отца?