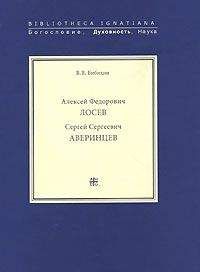Иван Магазинников - Вредители по найму (Бюро гарантированных неприятностей)
— Ушли, — раздался голос банника, — Здорово ты их! Я уж думал все, плакали наши денежки.
— Мои денежки, — поправил я, — Кстати, а почему те двое убежали?
— Я их слегка поскреб. Одного по шее, второго по руке. Видать, подумали, что их проказа достала.
— Хорошо придумано, — похвалил я банного духа, — Спасибо тебе, Йорхш.
Остаток пути мы проделали безо всяких происшествий. Особняк Эмилио находился за внешней городской стеной. Нет, не в западных трущобах и не в южном ремесленном квартале, а в восточной части, которая называлась Вольной. Здесь ютились безземельные дворяне, которым гордость не позволяла жить рядом с простыми горожанами, а тощий кошелек — обзавестись собственным загородным поместьем и землями.
Улица, которую назвал мне наниматель, называлась Журчащей, и впрямь, журчать там было чему: с добрый десяток фонтанов и два полноводных ручья, текущих с востока на запад вдоль главной дороги. И это не считая миниатюрных водопадов и фонтанов, которые украшали фасады домов или участки земли, на которых эти дома стояли. Улица оказалась довольно большой, но домов здесь было немало, просто к каждому из них прилегала огороженный участок таких размеров, что можно было еще с несколько зданий построить.
Нужный дом я отыскал почти сразу: это был двухэтажный особняк, перед которым стояла статуя… лошади! А за домом раскинулось самое настоящее поле с сочной зеленой травой, на котором паслась пара лошадей… Или существ, очень похожих на лошадей, если не считать пары аккуратных рожек и мощного костяного гребня, идущего у странных животных вдоль спины. Интересно, что это за травка такая, раз ее с удовольствием жрут эти твари?
Мы с банником расположились прямо напротив особняка Эмилио, спрятавшись за кустами мухоловника, росшими вдоль дороги. Я прямо здесь вывалил из карманов обломки досок и пару горстей земли, прихвачены мною там, где когда-то стояла баня Йорхша — благодаря этому, банник смог покинуть место, к которому был привязан. Отряхнув руки, я приказал духу следить за окнами дома.
— Зачем? — удивился тот.
— Я бы хотел к нему в гости наведаться… когда там никого не будет.
— Так спросил бы у домового. Поместье большое, от такого дома домашний дух далеко отойти сможет. Позвать?
— Эм… Уверен, что он не выдаст нас хозяину? Может, он в нем души не чает?
— Домовые уж больно конюших не любят, постоянно друг другу пакости строят. А ежели хозяин в лошадях души не чает, значит, первым делом будет задабривать того духа, который ему лошадей подпортить может. Или наоборот — присмотреть за ними как следует.
— Резонно, — согласился я.
— Да ты сам посмотри: в доме на окнах снаружи паутина висит, а конюшня ухоженная. Вот с конюшим его точно не советую знакомства водить: как пить сдаст хозяину!
— Ладно. Зови своего домового.
Рядом что-то едва слышно прошелестело листвой, а мне ничего больше не оставалось, как ждать и думать. А обмозговать было что. Например, способ, которым можно было проклясть или сглазить человека, да так, чтобы никаких следов не оставить. И чтобы жертве стало худо непременно в нужное время, ни часом раньше, ни часом позже.
Впрочем, как раз это можно было устроить. Госпожа Гюрзильда называла такой вид вредительства «условным проклятьем». Бывало, приходили к ней просительницы, которые хотели не просто сглазить свою соперницу или блудливого мужа, а непременно чтобы знал окаянный, за что страдает. Звучало это обычно примерно так:
«Порчу на него наслать, чтобы крючило его во все стороны! Только чтобы не сразу, пусть, гад этакий, живет здравствует. Но как только сунется за порог к этой стерве задастой, там прямо там его чтоб и скорячило, дабы неповадно было от жонки к соседкам бегать, да чужим девкам подол крутить!»
В таких случаях бабка проклятье клала особое, «спящее», который сидит себе тихо на несчастной жертве, словно и нет его, потому как не доделанное: не вложено в него должной силы. А поверх такого проклятья — хитрый наговор, который вступает в силу только при каких-то условиях. Смекаете? Только неверный муженек ступит на порог к соседке — за солью там, или спросить чего — и наговор тот час вступает в силу. А составлен он так, чтобы «пробудить» дремлющее проклятье.
Я уже начал составлять наговор, когда что-то острое — смертельно острое! — уткнулось мне в бок. На меня дохнуло перегаром, и раздался грозный голос:
— Ну, и что мы здесь вынюхиваем, а?
Глава 7. Сложносочиненные проклятья
Мысли мои лихорадочно неслись вскачь. Я сижу на земле, а нечто острое упирается мне в бок — значит, противник не отличается высоким ростом, а, скорее, совсем наоборот. Солнце сзади меня, но второй тени рядом с моей на земле нет. Или он невидим, или стоит очень уж далеко. Маленький, невидимый, да еще и пьяный… Ах ты гаденыш мохнатый, шутки шутить со мной вздумал?!
Ярость вспыхнула во мне, подобно лесному пожару, и я тут же всю ее пустил на проклятье. Точнее, проклятьем его называли исключительно те, против кого его применяли, хотя на самом деле относилось оно как раз к целительным заклятьям. Ведьминским, разумеется.
— Это… это ты чего со мной сотворил, ирод окаянный? — грозный голос стал недоумевающим и… совершенно трезвым!
— Как что? Протрезвил, конечно. Иначе ты своим ножичком да по пьяному делу мог и порезать кого-нибудь. Кстати, ты бы и впрямь его убрал, что ли.
Привычным движением прокусив губу и ощутив солоноватый вкус кровы, я нашептал «ведьмин глаз» и оглянулся. Позади меня стоял потрепанный домовой, сжимавший в своих мохнатых ручонках кухонный нож. Выглядел он паршиво: свалявшаяся борода с застрявшими в ней соломинками, латаный перелатаный тулуп, словно из одних заплат сшитый, а шерсть, покрывавшая тело нечисти, отсутствовала целыми клочьями.
— Так это ж я того… Токмо для шутки ради, — оправдывался он, пряча нож за отворот тулупа.
— Со мной так лучше не шутить, понял? Слушай, паршиво выглядишь, да еще и пьешь: ты как только до такой жизни докатился?
— Да разве ж это жизнь, — вздохнул домовой.
— Что, сильно обижают?
— Не то слово. Хозяин еще ничего, особо не забижает, а вот конюший — тот лютует будь здоров. Коней портить хозяин ему не дозволяет, насупротив: велит ухаживать и беречь как зеницу ока. А разве может пакостный дух нормально жить, если ему вредничать не дают? На конюшне то он смирный да хозяйственный, а вот дома…
Домовой сунул пятерню под тулуп и шумно почесался. На всякий случай, я отодвинулся подальше.
— То молоко скислит, то занавески в косы заплетет… А то и вовсе — хозяину в башмаки нагадит. За двоих, гад, старается, только и успевай за ним прибирать.