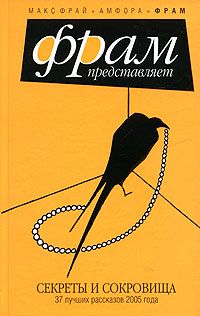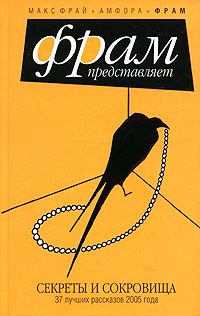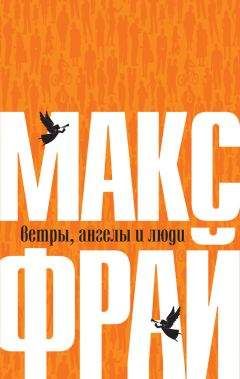Макс Фрай - ПрозаК
— И се: вот что принёс я тебе, справедливою жаждою сердца ведом! — торжествующе выкрикнул Выворотень. — Шёл я от самого моря, собрав по пути весь ужасающий зной пустынь, гор смертоносную горечь и жаркую силу лесов. Всё повергаю к подножью! Престола сего! Возьми же — вот я даю тебе руку, — Человек-Праздник изящно и в то же время величественно выбросил к трону сжатый кулак. — Дай мне твою и каждый получит. Своё.
Аксолотль не шевельнулся. Маленькие, круглые глазки его уставились, не моргая, в облака дыма и пара, сносимые ветром от озера к северо-востоку, к Салаирскому Кряжу. Выворотень молчал, выставив вперёд кулак, как ребёнок, поймавший редкостного жука и прибежавший с ним к отцу, а тот, оказывается, помер, ну а Царь-Скоморох просто молчал. Наконец, когда воздух слегка очистился, губы его дрогнули и он сам, без помощи толмача, произнёс, роняя из уголков рта каменную крошку:
— Хороший дар — не то, что даришь. Дар — это чувства и мысли, а что ты мне принёс, поганый, хромой, шелудивый ты пёс? Что там у тебя в кулачке? Есть ли там Этика? Есть ли Мораль? Говна пирога! Сплошь вытребеньки, пустые балясы, стрёкот, звон, бурчанье нечистых кишок. — воздух с сипением вышел у него из груди и снова вошёл. — Не очень-то я хорошо тут отметился, коли на смертное ложе, пускай и сидячее, подносишь ты мне блебетню да к ней людомор. Может, оно справделиво, конечно, но поди-ка ты вон. Занавес, стража!
— Хуя же, — отвечал, оскалившись, Выворотень. — Что тебе ебетё, то нам работё. Не хочешь добром, ну так схватишь еблом. Я таких царей крутил на хую пачками, против резьбы, а они ещё просили, пожалте и вы.
Он кинулся вперёд, прямо на Аксолотля, мгновенно поглотил его и воссел, да так ловко, что никто и глазом не успел моргнуть, тем более что как раз и стена рухнула, забросав всё вокруг вопящими защитниками и атакующими, а в небесах, разделив их на две равные половинки, пролёг изумрудный луч света, меч голода.
Луч этот ударил прямо в переносицу Утопленника, перевалившего Салаир и несшегося теперь вниз по осыпи, совершенно симметричной той, с другой стороны — ударил и не причинил ни вреда, ни пользы, чем бы они там ни отличались друг от друга. Он вылетел на равнину между озером и лысым холмом в облаке белой пыли и, не снижая темпа, побежал к пролому, поскольку ясно было, что дело Царя-Скомороха худо и надо поспешать. Вокруг него люди прекращали орать, опускали оружие и застывали в тоске, глядя на зелёный луч, и думали — ну как же так?
Утопленник, пробивая в настиле моста неровные дыры, перебежал на тот берег, прыгнул в пролом и боком, как краб, пересёк двор. Потом остановился. Потом повернулся на тридцать градусов и уставился на Царя-Скомороха. А Выворотень уставился на него.
Утопленник поднял руку, которая чуть не отправила Человека-Праздника в небытиё. Разжал пальцы — кончики пальцев с чваканьем вышли из мякоти ладони, они были нежно-розовые, как у младенца — и протянул Царю-Скомороху пустую чашку ладони, которая скоро, впрочем, заполнилась густой чёрной кровью. Выворотень ничего не понимал. Не может же эта матово бликующая выпуклая поверхность быть вестью? Или ладонь под ней? За кого тут его принимают? Он спросил:
— Ну?
— Умерла, — сказал Утопленник, и губы его напомнили Выворотню зарощенную корой старую зарубку на дереве, видимую изнутри. — Она тоже умерла.
Выворотень хотел расхохотаться, потому что люди, сколько он их помнил, только и делали, что умирали. Но вместо этого он вдруг тонко завыл и задёргался на троне, а Царь-Скоморох внутри него корчился, с хрустом превращаясь в груду щебня, и полосовал молодыми острыми гранями утробу Человека-Праздника, покуда оба они не превратились в один набитый галькой маскарадный костюм и не свалились к ногам застывшего Утопленника, оставаясь при этом существами вымышленными, не имеющими прототипов в реальной жизни и потому довольно о них.
©Грант Бородин, 2004
Дмитрий Брисенко. Город
Город исчез рано утром, когда рассвет только-только трогает вершины далёких деревьев, а часовые мигают редко и бессмысленно, точно больные птицы.
Это случилось не то в Новогоднюю ночь, не то сразу после неё, а то и за несколько дней до — никто уже не помнит, даже старожилы, которые, разбуди их ночью, тут же скажут, сколько стоил хлеб в 1947 году, какие марки сигарет были в ходу и сколько горошин было на галстуке тогдашнего генсека. Город исчез, стерев часть пространства, а заодно и часть памяти, связанной с этим пространством.
Зима сорила снегом как нувориш деньгами, поэтому горожане, выходя из прохладных подъездов, не сразу понимали, что белесая мгла перед ними — не метель, и даже не редкий зимний туман, а простое отсутствие какого бы то ни было городского пейзажа. И что цепочка следов, протянувшаяся от подъездной двери до предполагаемой остановки автобуса — это единственное, что связывает вчерашний вечер с сегодняшним утром.
Горожане шли привычным маршрутом, уткнувшись носом в натоптанные дорожки. Потом они замечали, что снежный хруп под их подошвами — это единственный звук, а больше ничего нет. Нет фырканья трогающихся маршрутных такси, нет индустриального шума трамваев, нет карканья ворон и гава собак, нет транквилизирующего скрёба дворницкой лопаты, нет войне! (последнее, впрочем, имело место всегда, и как-то даже успокаивало).
Как не бывает дыма без огня, так не бывает и картинки без звука — это вам скажет любой телевизионный мастер, тут не надо к городскому шаману ходить. Горожане — кто-то раньше, кто-то позже — тоже начинали это понимать. Тогда самые умные разворачивались на сто восемьдесят градусов (к слову, крутой поворот; представьте четыре бутылки водки и пузырь портвейна!) и, уже понимая, что ничего не вернуть, что никаких дорог назад не существует, всё же бежали назад, к подъезду, из которого три минуты как вышли. Когда, по их прикидкам, подъезд должен был появиться в поле зрения, но всё же не появлялся, некоторые из горожан останавливались и морщили лоб. Другие, которые поупрямей, продолжали идти к подъезду и шли до тех пор, пока натоптанная дорожка не истончалась до едва заметных глазу одиночных следов, а потом исчезала насовсем.
Были моменты паники. Люди кричали, метались по сугробам, поскальзывались. Белесая мгла, заменившая город — её было так много, что можно было бродить вечно, а ведь были и такие, за кем заезжает шофёр, и от кого зависит многое, всё. По причине их отсутствия город вполне могло парализовать, возникли бы автомобильные пробки, полопались трубы, рухнул на манежную площадь красивый дирижабль, но поскольку к тому моменту уже не было ни манежной площади, ни труб, ни автомобилей, те, за кем заезжает шофер, расслабились, достали из портфелей газеты и стали их читать.