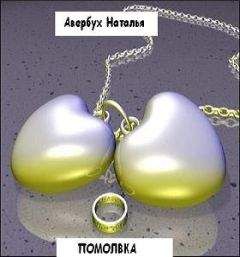Ольга Григорьева - Ладога
Я зябко поежился. Хитрец дождался, когда дверь за Чужаком закроется, и зашептал торопливо:
– За водой в этакую темень обычные люди не ходят. Ведьмина порода!
– Не ворчи. Помоги лучше, – одернул его Славен и на столе телятину со значками да пометками растянул.
Кто ту телятину расписывал, не знаю, а были на ней и деревья разные маленькие нарисованы, и болото лягухами помечено, и реки длинными змеями вились, и озера лужами округлыми разливались, а в самом низу, возле сплошного пятна темного, горделиво большой дом стоял, сразу видать было – Ладога!
Хитрец подошел на зов, посмотрел, помычал и изрек умно:
– Здесь идти надобно.
Морщинистый палец прочертил на бумаге извилистую линию. Наследник поморщился, будто горькой репы вкусил…
– Почему ж не напрямки?
– Это добрый путь, тореный… Тут пойдем.
– Ты советуй, да не указывай! – рявкнул Славен. Хотелось ему властью вверенной потешиться, да Хитрец всерьез разобиделся – лицом окаменел, губы бесцветные жесткой полосой стянул. Не ждал, видать, упрямства такого от мальчишки, годами в сыны ему годящегося. Теперь со стариком спорить – себе дороже встанет. Я как-то раз пробовал. Это как с трясиной болотной тягаться – чем сильнее дергаешься, тем быстрей засасывает.
Он отступаться от своего не хотел, доказывал упрямо:
– Горелое печище – место недоброе! Недаром его сожгли. Злое место!
– Чего же злого в нем?
– Не знаю!
– Ну, тогда и спорить не о чем!
Славен откинулся назад, принялся телятину сворачивать. Медведь вылез из-за его плеча:
– Дай – гляну.
Потер телятину пальцем, покачал косматой головой:
– Ты, Хитрец, зря упрямишься. Через Горелое и впрямь ближе…
– Ближе, да хуже!
– Хватит! Как сказал я, так и будет! – рассердился Славен и, нахмурясь, отобрал телятину у спорщиков. – Через Горелое пойдем!
Не заметил он за своей спиной Чужака – развернулся и чуть не налетел на него. Прошипел что-то недоброе и обойти хотел, но высунулась из-под старого Чужакова охабеня тонкая да цепкая рука, остановила:
– Не тебе решать, куда идти.
Славен от неожиданности оторопел, а я поперхнулся аж. Вот так тихоня, ведьмин сын! Да такое Старейшине сказать не всякий нарочитый осмелится, а он, голь перекатная, ляпнул и головы не склонил!
– Да как ты… – Хитрец зашелся, негодуя.
Чужак на его голос повернулся, сказал вроде неспешно и спокойно, а все же побежали от его слов по коже мурашки, обдало холодом:
– Ты, старик, готовься – выходит твой срок в миру…
В каком миру? Да какой срок? Иль это он грозится так, что смерть Хитрецова близка? Откель сие ведает?
Тот пискнул исполошно и замер, на ноги Чужака уставясь. Я невольно тоже на них поглядел.
Стояли возле ног сына ведьмина две бадьи, доверху чистой воды полные… Бегали по гладкой поверхности блики яркие, дрожали испуганно, будто боялись споров да голосов чужих. И где же он в такую темень родник сыскал?! Неужто и впрямь нежить он?!
Славен бадей не приметил, двинулся грозно на строптивца:
– Ты делать будешь то, что я велю! В верности мне клялся, значит, и слушаться меня должен!
Тот пожал равнодушно плечами, хмыкнул:
– Я? Тебя?
Это уж он через край хватил! Славен – парень незлобивый, но ведь всякой доброте предел есть. Нельзя этак с нарочитым говорить! Ничего, кроме неприятностей, не напросишь…
– Не хочешь слушать меня – уходи отсель! – разъярился Славен.
За дело разъярился – я б на его месте вообще с наглецом схватился в поединке, да раз-навсегда выяснил, чья правда верх возьмет…
– Утром уйду. – Чужак отвернулся и пошел в свой темный угол.
Медведь его недоуменным взглядом проводил, а Лис лишь покрутил пальцем у виска, дескать – что с умалишенным разговаривать…
Я ночь худо спал – метался в сомнениях и страхах пустых, о Чужаке думал. Веяло от ведьмина сына силой большей, чем у Славена была, только разобрать я не мог, откуда она у него да какова. Казалась сила его Кулле сродни – ветру вольному, бездумному, который и добро и зло в одно смешивал да нес-веял по белу свету – кому что достанется… Видать, обучился Чужак ведовству у матери, получил силу от ее знаний, а управляться с этой мощью толком не умел. Это что глуздырь годовалый с ножом острым охотницким балующийся, – иль себя, иль других, а непременно порежет…
В коротких сновидениях, что наплывали иногда, мерещились мне разные ужасы. То огромные, похожие на волков звери рвали на части чье-то тело исковерканное, то темными, зловещими тенями метались перед глазами блазни, то огромная фигура Чужака склонялась надо мной и спрашивала: «Хочешь, сниму капюшон? Хочешь?» Спокойный сон лишь под утро меня одолел, а проснулся я все же других ранее. Едва глаза размежил – почуял: не хочу в Горелое печище идти… А почему не хочу, и объяснить бы толком не смог… Может, Чужак в том виноват был?
Глянул я на место его, в угол, увидел там шкуру, аккуратно в полено свернутую, да на чистой белой тряпице краюху хлеба, для других случайных путников им оставленную… Сам не знаю с чего, навернулись слезы на глаза, захотелось из избы выбежать и окликнуть ведьмина сына – хоть проститься с ним по-человечески. Но, видать, он в человеческой речи не нуждался – недаром так ушел, втихую, ни с кем не простившись.
Просыпались остальные. Зевали, потягивались и, словно стыдясь чего-то, опускали глаза, старались не глядеть в сторону опустевшей лавки Чужака. Молчали, будто воды в рот набрав, а за столом не удержался Медведь, сказал вслух то, что у каждого на языке вертелось:
– Тошно…
Славен взвился, будто ножом кто ткнул в мягкое место, рявкнул решительно:
– Ляд с вами всеми! Собирайтесь! В Терпилицы пойдем.
Хитрец гордо выпятил тощую грудь, но всем ясно было: не из-за него Славен другой путь избрал – из-за чужака. Коли остался бы тот – небось, и дерзость простил бы ему. Поторопился с уходом ведьмин сын, поспешил…
Да не один он спешил, все мы собирались в суете да горячке, будто неловко вдруг почуяли себя в волхской избенке. Не казалась она уж больше укрытием надежным. Оно и не мудрено – от самих себя да от неправоты своей ни в какой избе не спрячешься, будь она хоромами Княжьими иль домом, в лесу заброшенным…
СЛАВЕН
Какого ляда взъелся я на Чужака, зачем его прогнал? Конечно, тех слов обидных, что он не удержал, я простить не мог, но все же помнить должен был, кто нас всех на Болотняке от смерти спас. А я забыл – сорвался на спасителе своем, распотешил гордыню неуемную. Вот потому и тошно теперь, несладко. Казалось – все меня осуждают, все глядят косо. Даже лес не желал привечать – шумели деревья приглушенно над головой, словно мыслили отомстить за ведьминого сына. От шелеста их холодок по коже бежал, пронимала сердце дрожь неведомая.