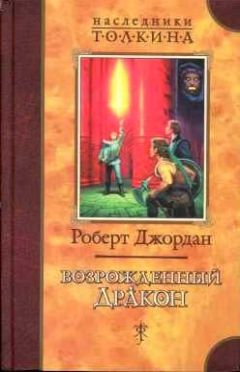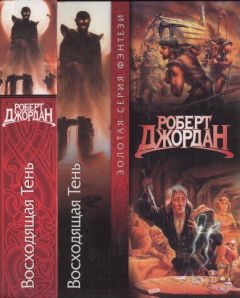Роберт Джордан - Возрожденный Дракон
Айилец по-прежнему сидел в клетке, подтянув колени к подбородку, и смотрел на освободителя.
— Ну? — хрипло прошептал Перрин. — Я ее открыл, но будь я проклят, если стану тебя оттуда вытаскивать! — Юноша торопливо окинул взглядом затянутую ночным мраком площадь. По-прежнему ничто не двигалось, но он все равно чувствовал на себе следящие глаза.
— Ты силен, мокроземец. — Айилец не шевельнулся, разве что повел плечами. — Чтобы поднять меня туда, понадобилось три человека. А теперь ты меня спустил. Почему?
— Мне не нравится, когда людей сажают в клетку, — прошептал Перрин. Ему хотелось уйти. Клетка открыта, и непрестанно следят те глаза. Но айилец не двигался с места. Если начал дело, делай его хорошо и доводи до конца. — Может, вылезешь, пока кто-нибудь не появился?
Айилец протянул руку вверх, обхватил верхнюю, дальнюю от себя перекладину. Одно движение — и он выбрался из клетки и поднялся на ноги, тяжело опираясь на железный прут решетки. Если б он выпрямился, то был бы на голову выше Перрина. Он посмотрел Перрину в глаза — Перрин знал, как они сияют в лунном свете полированным золотом, но айилец не обратил внимания на их необычный цвет.
— Я просидел тут со вчерашнего дня, мокроземец. — Говорил айилец совсем как Лан. Нет, голос его не походил на голос Лана, и выговор был другой, но у айильца была та же невозмутимая холодность, та же спокойная уверенность. — Нужно немного времени, мокроземец, а то ноги у меня затекли. Я — Гаул, из септа Имран, из Шаарад Айил. Я — Шаеен М'таал. Каменный Пес. Моя вода — твоя.
— Ага, а я — Перрин Айбара. Из Двуречья. Я кузнец.
Из клетки он его вытащил; теперь айилец свободен. Только бы здесь никто не появился, пока Гаул не обретет способность ходить, иначе он опять окажется в клетке, или же его просто убьют. И в том, и в другом случае труды Перрина пошли бы прахом.
— Надо было мне принести фляжку с водой или бурдюк. А почему ты называешь меня мокроземцем?
Гаул указал рукой на реку. В лунном свете даже глаза Перрина могли обмануться, но ему показалось, что айилец впервые выглядел встревоженным.
— Три дня назад я наблюдал за девушкой, она резвилась в громадном пруду! Там было столько воды! В поперечнике озеро было, наверно, шагов двадцати. Она… переплыла его. — Он неуклюже двинул рукой, его жест слегка напоминал гребок. — Храбрая девушка. Переправы через эти… реки… чуть было не лишили меня мужества. Не думал, что где-то может быть столько воды сразу, никогда не предполагал, что в вашем мире, в мокрых землях, так много воды!
Перрин покачал головой. О Пустыне и айильцах он знал немного, о том, что в Айильской Пустыне мало воды, Перрину было известно, но он не предполагал, что ее так мало, чтобы Гаула настолько потрясла река.
— Ты далеко от родных мест, Гаул. Почему ты здесь?
— Мы ищем, — медленно промолвил Гаул. — Мы разыскиваем Того-Кто-Приходит-с-Рассветом.
Перрину уже доводилось слышать это имя, и тогдашние обстоятельства не оставили сомнений, о ком идет речь. Свет, вечно дело возвращается к Ранду! Я накрепко привязан к нему, так норовистую лошадь связывают перед ковкой.
— Ты не там ищешь, Гаул. Я тоже его ищу, а он на пути в Тир.
— В Тир? — Айилец был явно удивлен. — Почему?… Но так должно быть. Пророчество гласит: когда падет Тирская Твердыня, мы наконец покинем Трехкратную Землю. — Так айильцы называли Пустыню. — В пророчестве сказано: мы изменимся и вновь обретем то, чем владели и что было потеряно.
— Может, и так. Ваших пророчеств, Гаул, я не ведаю. Ты уходить-то собираешься? В любую минуту может кто-нибудь появиться.
— Бежать слишком поздно, — заметил Гаул, и кто-то низким голосом закричал:
— Дикарь на свободе!
С десяток или с дюжину мужчин в белых плащах, выхватывая мечи, бежали через площадь, конические шлемы сияли в лунном свете. Чада Света.
Будто имея в запасе все время в мире, Гаул преспокойно снял темную материю со своих плеч и обмотал ее вокруг головы, довершив боевое облачение плотной черной вуалью, которая скрыла его лицо. Над черной повязкой сверкнули глаза.
— Ты любишь танцевать, Перрин Айбара? — спросил айилец. И с этими словами бросился прочь от клетки. Прямо на наступающих Белоплащников.
На мгновение те оказались застигнуты врасплох, но это мгновение, очевидно, и нужно было айильцу. Из руки того, кто оказался к нему ближе всех, Гаул ногой выбил меч, затем его твердая рука, словно кинжал, ударила по горлу Белоплащника и айилец ловко скользнул мимо падающего солдата. Рука следующего хрустнула с громким треском — Гаул сломал ее. Этого вояку он толкнул под ноги третьему и ногой ударил в лицо четвертого. Это и в самом деле походило на танец — от одного к другому, не останавливаясь и не замедляясь, хотя сбитый с ног воин пытался вновь встать, а тот, у кого была сломана рука, перехватил меч левой. Гаул танцевал в самой гуще врагов.
Изумляться Перрину пришлось совсем недолго, поскольку не все Белоплащники накинулись на айильца. Обеими руками Перрин сжал рукоять своего топора, и вовремя — он тут же отбил выпад меча, размахнулся… и ему захотелось закричать, когда лезвие в форме полумесяца разорвало горло противнику. Но ни для крика, ни для сожалений времени не оставалось: едва рухнул первый, как за ним набежало еще больше Белоплащников. Перрину ненавистны были глубокие зияющие раны, которые наносил его топор, он ненавидел то, как он прорубал кольчугу, кромсая под ней человеческую плоть, как почти с равной легкостью раскалывал шлемы и черепа. Перрин ненавидел это всей душой. Но умирать ему не хотелось.
Казалось, время и сжималось, и растягивалось. Тело Перрина налилось усталостью, будто сражался он уже долгие часы, шершавый воздух при вдохе обдирал горло. Люди словно плавали в вязком желе и одновременно будто в мгновение ока переносились с того места, откуда начинали движение, туда, где падали наземь. Пот градом катился по лицу, но юноша чувствовал такой холод, будто его окатывало ледяной водой из лохани для закалки подков. Перрин бился за свою жизнь и вряд ли мог сказать, длится сражение секунды или всю ночь.
Когда же он, ошеломленный, тяжело дыша, остановился наконец и недоверчиво уставился на дюжину солдат в белых плащах, распростершихся на каменных плитах площади, луна, казалось, не сдвинулась с места. Кое-кто из Белоплащников стонал; другие лежали недвижные и безмолвные. Посреди белых плащей возвышался Гаул, — лицо по-прежнему скрыто вуалью, руки по-прежнему пусты. Большинство поверженных пало от его рук. Перрину вдруг захотелось, чтобы все они были сражены одним Гаулом, но при этой мысли он почувствовал жгучий стыд. Остро и горько пахло кровью и смертью.