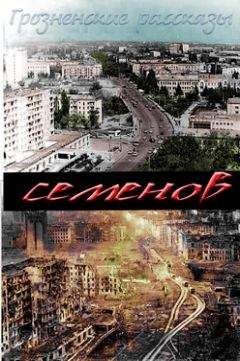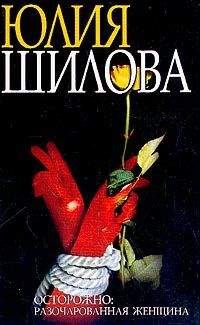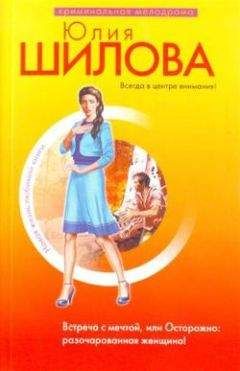Ольга Денисова - Вечный колокол
— Это пройдет. Ты был мальчиком, а стал мужчиной. Это случилось с тобой слишком рано, а то, что приходит не вовремя, всегда кажется чужим. Сначала.
— Может быть, ты и прав, — вздохнул Ширяй, — мне иногда страшно делается. Мне кажется… мне кажется, я не дорос до самого себя.
— Это пройдет, — повторил Млад, сжимая рукой плечо шаманенка.
— Я должен сказать ей… Я должен сам, понимаешь? Я должен в глаза ей посмотреть. А я боюсь. Я ведь думал тебя попросить, но потом понял, что это трусость просто. Ты говорил, чтоб мы отходили, а я тебя не послушал. Я никогда тебя не слушал, — Ширяй всхлипнул вдруг.
— Перестань. Я тоже думаю каждый раз, что можно было бы изменить. Один шаг, одно движение — и все бы изменилось. Но оно не изменится оттого, что я буду об этом думать. Над временем не властны даже боги, оно течет только вперед… Нам придется с этим жить. И… Ты никогда не задумывался, почему на тризне положено смеяться?
— Потому что смерть боится смеха, — ответил Ширяй, — потому что смех пугает Недолю, Неудачу.
— Да, конечно. Но есть и еще одно: кто-то уходит, жизнь так устроена. Но мы остаемся. И наше дело жить дальше, жить без тех, кто от нас ушел. И ловить каждый глоток этой жизни, любить ее такой, какая она есть.
— Да, — улыбнулся Ширяй, — мир, в котором мы живем — прекрасен. Я помню. Ты всем это говоришь перед пересотворением…
— Я прав.
— Знаешь, Мстиславич, ты очень хороший учитель. Если бы я не поверил тебе тогда, я бы сейчас не смог всего этого пережить. Я твердил самому себе: мир, в котором я живу — прекрасен. Как во время пересотворения. И если бы не потери, он был бы не таким… прекрасным… Если нет зимы, какая радость в лете?
Перевозчик довез их до самого университета — задолго до полудня. День был удивительно ясным и теплым, и вода в Волхове казалась синей.
— Мстиславич… — Ширяй тронул его за руку, — знаешь, я раньше не замечал. Смотри, какие цвета. Зеленое на голубом. Как ярко… Мне кажется, я бы всю жизнь смотрел.
Млад рассеянно кивнул — на повороте к университету, на круче берега он увидел две девичьи фигурки. Одна из них являлась ему в видении еще зимой, накануне выхода в Псков. Он сказал тогда Добробою: она тебя дождется. Он не хотел знать, что это неправда…
Лодка быстро шла по течению, и вскоре Ширяй тоже заметил встречающих: лицо его побледнело, он поднялся на ноги, качнув лодку, и взмахнул обрубком руки, чтоб удержать равновесие. Перевозчик ничего не сказал, только покачал головой. Лицо Ширяя менялось каждую секунду: то Младу казалось, он готов разрыдаться, то, напротив, радость светилась в его глазах, снова сменяясь болью. Надежда и страх разочарования…
— Да она ждет тебя, Ширяй, ждет… — сказал Млад, — ты мог бы в этом не сомневаться.
— Она еще не знает… Она… Отсюда еще не видно… — пробормотал тот.
Две девочки на берегу переглянулись и кинулись вниз по тропинке, ведущей к воде. Перевозчик усмехнулся и направил лодку в их сторону. И Млад заметил, что не ошибся тогда, зимой: одна из них ждала ребенка — Добробой оставил на земле свое продолжение. Ширяй зажал рот ладонью и застонал — он тоже заметил это.
Лодка едва успела ткнуться носом в песок, когда он собрался прыгать в воду — Млад едва успел придержать его под локоть, чтоб парень не упал.
Они обе плакали и обнимали его. Словно он остался один на двоих. Они уже знали и про смерть Добробоя, и про увечье Ширяя, Млад понял это по первым же их сбивчивым словам. Одна уверяла, что будет любить его каким угодно, а другая оплакивала своего Добробоя на шее его друга. Они плакали громко, по-бабьи, и Млад подумал, что война не только мальчиков делает мужчинами, но и девочек слишком рано превращает в женщин.
Он вытаскивал вещи из лодки, и перевозчик помогал ему, поглядывая в сторону Ширяя.
— Бедные дети. Неужели я настолько стар, что молодые кажутся мне детьми? Давай я тебе до дома помогу доспехи донести, пусть их обнимаются да плачут…
Млад кивнул.
В университете было пусто, так же как в профессорской слободе. Млад дошел до своего дома, никого не встретив.
Ленивый Хийси визжал от радости и рвался с цепи, когда увидел хозяина — Младу пришлось его отпустить. Огромный пес прыгал ему на грудь, лизал лицо и тявкал, как щенок. Он растолстел — видно, сычевские бабы кормили его на убой, как поросенка.
— Тихо ты, тихо! — смеялся Млад, — уронишь…
— Радуется… — понимающе кивнул перевозчик, — что ж тебя-то никто не встречает, кроме пса?
— Никто не знает, что я вернулся, — ответил Млад — мысль о встрече с Даной обожгла его вдруг ледяной волной. В Пскове он ни разу не усомнился в том, что она ждет его, но тут вспомнил Родомила, и его последний взгляд, обращенный к ней: тоска и страх сжали сердце.
— Мстиславич! — издали окликнул его скрипучий голос, — Мстиславич! Вернулся!
Со стороны университета к нему, переваливаясь, бежал Пифагорыч — Младу показалось, он совсем состарился.
— Мстиславич, — старик запыхался, — миленький! Живой!
— Ну вот, — вздохнул перевозчик, — пойду я…
Млад не успел его остановить, чтоб предложить поесть и отдохнуть: Пифагорыч припал к его груди.
— Вернулся… Мы и не надеялись. Весной ребята покалеченные вернулись, говорили, ты смертельно ранен. Мстиславич, сколько детушек наших… Сколько мальчиков! — из мутных глаз по щекам старика текли слезы, — половины в живых не осталось! Я вот, старый, еще жив, а мальчики…
Млад не знал, что ответить, и чувствовал, что виноват: не сберег.
— Как я рад, что ты жив… — прошептал Пифагорыч, — как я рад… И Пскова они не взяли! Не взяли Пскова!
— Не взяли, — Млад кивнул.
— Помнишь, я говорил, что никто из них не побежит в ополчение записываться? А я ведь и прощения не могу у них попросить, у тех, кто там остался… Старый я дурак! Не взяли немцы Пскова… И не возьмут никогда!
Млад забыл постучать — дверь была не заперта. Наверное, не надо было приходить сразу, стоило выспаться, отдохнуть, попариться в бане… Как он явится к ней в таком виде? Млад перешагнул через порог, оглядываясь по сторонам: Дана сидела с книгой у раскрытого окна и недовольно подняла голову — кто это вошел к ней без стука и помешал?
Наверное, она не сразу разглядела его — на дворе светило яркое солнце, а у двери сгустилась полутьма. Млад молча стоял в дверях и почему-то боялся пойти в дом, пока она вглядывалась в его лицо — глаза ее смотрели вопросительно, непонимающе и испуганно: она не узнала его.
— Дана, — наконец, хрипло выговорил он и сглотнул.
Она поднялась — на ней был летний широкий сарафан без пояса и рубаха из тонкого льна, просвечивающая на солнце. А он почему-то вспоминал ее в шубе, такой, какой видел в последний раз. Как глупо… Ведь давно наступило лето, как она могла встретить его в шубе?