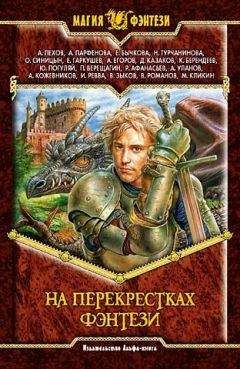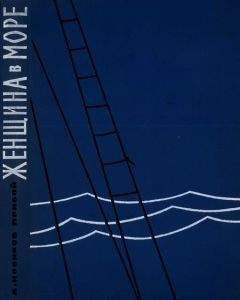Братья Бри - Слёзы Шороша
И вот – шесть часов. Дэниел, с чувством победителя, уселся перед компьютером. Пальцы привычно тронули клавиатуру – оптимистический мальчик внутри него вздрогнул. И он вдруг каким-то чутьём уловил то, что ждёт его в самом близком будущем, расстояние до которого измерялось мгновениями, – пустоту, он уловил пустоту… и сказал себе:
– Прощай, оптимистический мальчик, больше ты не нужен мне.
Дэниел открыл почту – пустота, ощутимая, ощутимее той, которую он мгновением ранее предвидел, запечатлённая в виде пустоты на том месте, где должна стоять – не просто стоять, а бросаться в глаза – долгожданная или неожиданная цифра. Он так бешено отринул эту пустоту, что стул из-под него загремел на пол. И на смену пустоте пришла противность. Она была во всём… во всём, чем он только что – ведь он спрессовал каждую секунду до «тик» или «так» – забавлялся: в его наивно-нахальном послании человечеству, в пошлой насвистывающей весёленькую мелодию уборке, в самодовольных приторных эклерах, в фальшивом плескании на сытую утробу в озере экспрессии у Эйфмана, в самом оптимистическом мальчике, которым он обернулся, продавшись новой жизни за укороченные секунды.
Через три часа во входящих – ничего. И никаких эмоций – просто белый тупик… в потолке над головой…
Ещё через три часа, в полночь, Дэниел сказал себе:
– Если ноль, запишусь в морпехи – и катись оно всё…
Он подарил ожиданию ещё несколько минут (потому что ожидание внутри тебя ждёт удачи, как бы ты не убеждал себя в том, что больше не веришь в неё)… и – входящие (4). Сердце помчалось. Дэниел открыл первое письмо.
«Привет, Дэн! В изображённой руке я узнала свою. На ней – капля моей любви. Я за знакомство. А ты?»
Месяц назад Дэниел не стал бы обижать человека, написавшего эти строчки, молчанием. Теперь он удалил его сразу после первого прочтения, не дав шанса ни одной мысли, ни серьёзной, ни ироничной, побежать вслед. И открыл второе послание.
«По-моему, это твоё отношение к любимой планете, на которой ты живёшь».
Корзина пополнилась, и снова – без сопроводительного текста. Третье письмо (его вторая часть) заставило Дэниела улыбнуться.
«Сопли в сахаре. Шёл бы лучше в морпехи».
Последнее письмо он открывал, не сожалея о том, что оно последнее: он был уверен, что идея работает и остаётся только ждать. «Какой кайф – ждать!» – подумал он и прочитал:
«Дэниел, не сочтите мою просьбу за бестактность. Скажите, что вы сделали с ответами, которые уже прочитали. Эндрю».
Дэниел не успел ещё угадать логику этих слов, ту скрытую логику, которая наверняка присутствовала в них, но почувствовал: «Это начало». И написал: «Я удалил их».
Через минуту – письмо от Эндрю: «Вы видели то, что изобразили, или это плод ваших фантазий? Если второе, не утруждайте себя ответом».
Из двойственного положения, в котором оказался Дэниел, он попытался выйти так: «Это не плод фантазий. Я видел, но…»
«Дэниел, думаю, мы можем быть друг другу полезны и найдём способ обойти наши „но“. До завтра».
Дэниел перечитал письма Эндрю и свои. И счастливый, с вопросом «что это?», относящимся и к своему рисунку, и к новому знакомству, лёг спать.
Наутро его ждали два письма. Одно было отправлено в два часа ночи. Дэниел не стал удалять его, но и не ответил – отложил на потом: оно показалось ему странным и отозвалось в нём сочувствием. Второе письмо было от Эндрю: «Доброе утро, Дэниел. С вашего позволения, ещё два важных для меня вопроса (упустил вчера). Сколько вам лет, и не являются ли приоритетными в вашей деятельности точные науки?»
Дэниел усмехнулся, припомнив Кохана: «клуб по интересам, главный из коих меркантильный», и отписал: «Доброе утро, Эндрю! Скоро 20. Студент, сугубый гуманитарий». Хотел было отправить, но решив, что для доброго солнечного утра выходит суховато, добавил: «С точностями не в ладу, в отличие от моего деда (ныне покойного), во всём сомневаюсь».
Письмо от Эндрю пришло в семь вечера: «В точных науках сомнение важнее, чем в гуманитарных. Кстати, кем был ваш дедушка?»
Дэниел ответил: «Астрофизиком. Его имя Дэнби Буштунц».
Ответ Эндрю не заставил себя ждать: «Рад знакомству с внуком человека, работы которого изучал и высоко ценю. Я завтра же приеду к вам, если не возражаете. Отстучите адрес и телефон».
В полночь Дэниел удалил ещё пять новых писем и вернулся к отложенному странному:
«Привет! Я Джеймс Хогстин. Мне 16. Я не могу ответить на твой вопрос. Но я смотрел на картинку, и мне показалось, что в ней есть что-то такое, чего нет вокруг нас. Это не столько в самой картинке, сколько в той вещи, которую ты держал в руке. Она оставила что-то внутри тебя, я чувствую это. Ты можешь не знать об этом, но, поверь на слово, она оставила. Это ерунда, что всё оставляет. Оставляет только то, что хранит в себе особую силу. Таким было моё первое впечатление от картинки. Я очень чуток к первой волне, исходящей от того, с чем я соприкасаюсь. Если ты не против, скажу о себе».
«Скажи, Джеймс», – написал Дэниел в ответ. И утром прочитал:
«Спасибо, Дэн. Вот вкратце то, что я хотел и хочу сказать. Вокруг много проявлений живого и неживого, которые заставляют нас испытывать страх. Бывают моменты непреодолимого страха (конечно, прежде всего я говорю о том, что пережил сам). И выход только один – спрятаться. Но спрятаться так, будто ты исчез, и вернуться, когда почувствуешь, что можно вернуться. Этот момент почувствуешь, я знаю. Исчезаешь ты – исчезает и твой страх, потому что то, что вызывает его, теряет тебя из виду и не может найти и, скажу так, бросает эту затею, навсегда или на время. Если ты подумал, что я сумасшедший, не пиши мне больше. Но знай: я научился прятаться от страха, я могу исчезать. Мне надо было это кому-то сказать».
«Напишу позже, – ответил Дэниел, вспомнив, что он тоже вроде как исчезал на целый месяц. – Не знаю когда, но напишу».
* * *Дэниел прогуливался у входа в сквер напротив двухэтажного здания, в котором размещалась галерея Эйфмана. Час назад, в половине одиннадцатого утра, позвонил Эндрю и сказал, что после трёхчасового перелёта предпочёл бы встретиться и поговорить на свежем воздухе. Дэниел выбрал место неслучайно: с него началась история с «летаргическим сном».
Неподалёку остановилось такси. Из него вышел высокий худощавый мужчина, лет тридцати-сорока, и огляделся. Дэниел догадался, что это и есть Эндрю, и, когда их взгляды встретились, помахал ему. Тот в ответ широко улыбнулся и с запечатлённой на лице приветливостью подошёл и подал Дэниелу руку.
– Это я вам писал и сегодня звонил. Эндрю Фликбоу. А вы Дэниел, не правда ли?
– Дэниел Бертроудж, тот самый, что задался вопросом, что у него на ладони.
Эндрю усмехнулся.
– Что ж, формальная идентификация проведена. Давайте-ка ходить. Страсть как люблю такие аллеи, длинные, просторные, насыщенные кислородом, – отменная взлётная полоса для разгона мыслей. Правда, редко выпадает ублажить себя этакой роскошью, – Эндрю говорил мягко, но скоро. Во взгляде его серых глаз читалась уверенность в себе, может быть, с лёгким налётом насмешливости и задиристости, чему в подмогу была некоторая вздёрнутость носа, тянущая за собой верхнюю губу. – Мы с вами должны с кого-то и с чего-то начать, чтобы подступиться к искомому объекту. Готовы выложить свои секреты?
– Не знаю, но скорее это не секреты, а странные обстоятельства, в которых больше загадок, чем разгадок.
– Очень вас понимаю. Уже сам вопрос «что это?» предполагает в приоритете получение некоего пучка информации. Но обстоятельства, к вашему сведению, тоже штука зачастую весьма информационная, а случается, и секретная. Хорошо, начнём с меня, я предвидел такую конфигурацию. Пожалуй, дойдём до конца аллеи в молчаливых воспоминаниях, а там развернёмся на сто восемьдесят и приступим.
Ещё несколько минут они медленно шли не разговаривая. Дэниелу залетело в голову, что всё это странно («всё это» не было для него чем-то определённым и не ограничивалось лишь встречей с Эндрю или какими-то его суждениями, напротив, оно было размытым и непонятным).
– Чтобы вы уяснили, почему я сорвался с места из-за картинки в сети и прилетел к вам, попробую вернуться на двадцать лет назад, – приступил Эндрю. – Тогда мне было четырнадцать. Я и мой друг, Лео Карпер, направились к Медвежьим скалам, – Эндрю замялся, поймав себя на какой-то мысли, затем продолжил. – Я должен был сказать не так и сразу исправляю погрешность. Несомненно, мне следовало поставить Лео первым. Из нас двоих он был, так сказать, главным героем. Сорвиголова – это про него. Зачинщик всех наших приключений и к тому же фотограф от бога, – рассказчик снова прервался и с минуту не мог проронить ни слова, пока не переждал наплыва чувств. – Припомнил его лицо, оно не менялось с тех пор: он остался в том времени… Лео давно хотел пофотографировать в пещерах Медвежьих скал, однако взрослые запрещали соваться туда, упирали на то, что они якобы представляют собой один безвыходный лабиринт. Поговаривали, что к этому приложили руки индейцы, не желая покидать насиженных мест. Но разве остановишь Лео разумными доводами, если он задумал где-то пощёлкать. Чтобы наплевать на все преграды, ему нужен был только повод. Знаете, для такой категории людей существует лишь одно правило: есть повод – есть заводка. (При этих словах в голове у Дэниела промелькнуло, не из этой ли породы сам Эндрю.) И такой повод нашёлся. Произошёл странный, если не сказать страшный случай. Её звали Тереза Брэнтон. Всеми любимая учительница естествознания и устроитель школьных пикников и походов. По всей видимости, она хотела снять противоречие между романтическими взорами детей в сторону Медвежьих скал и упёртостью взрослых. Она решилась и пошла, одна: мечтала разработать маршрут и потом водить по нему детей… Через две недели егеря обнаружили её на уступе скалы. Она сидела неподвижно и ни на что не реагировала, словно истукан. Те, кто видел её, говорили, что она утратила свой облик… в котором была любовь ко всем нам. Лицо её одеревенело, а в глазах застыл ужас. Она потеряла дар речи, и не проронила с тех пор ни слова… и ни слова не написала. Дэниел, я навещал её в клинике два года назад – у меня мурашки по коже. Она будто и сейчас видит то, с чем столкнулась тогда и что сделало её такой. Я не преувеличил, когда сказал: мурашки по коже. Я заглянул в её глаза, и меня взяла оторопь, потому что в них ожили, для меня ожили, другие глаза, те, что уничтожали меня в пещере. Я, простите… ссался, полгода ссался, я, Эндрю Фликбоу, лучший ученик школы, лучший забрасывальщик из трёхочковой зоны, лучший бегун на милю. Я тоже лежал в психушке. Меня вытаскивали изо всех сил: мой отец был тогда мэром города. Как видите, вытащили… Лео, Лео. Он фотографировал подступы к одной из пещер, когда к нам подкрался медведь. С криками мы бросились к проходу. Лео споткнулся и упал. Очевидно, это закон сущего: кто-то падает, а кому-то везёт, как ни горько это звучит. Истошные вопли Лео врезались в мозги ощущением смерти, и страх заставил меня пробираться вглубь. Мне казалось, я слышал медведя позади себя. Я искал узкие ходы, по которым он не смог бы преследовать меня… Все подумали, что я свихнулся из-за медведя и из-за Лео. И я не стал… Дэниел, вы первый, кто услышит правду. Через какое-то время – знаете, очень трудно определить время, когда ярд прохода отнимает у тебя на милю энергии, – через какое-то время я оказался в пещере. Включил фонарь (в движении я то включал, то выключал его: берёг батарейки). То, что я увидел и что испытал в те мгновения, трудно передать словами. Страх? Несомненно, страх… Но есть страх и страх. Какие-то наши страхи запечатлены на генном уровне. Дэниел, вы можете спорить со мной, но я убеждён, что страх получить штык в живот именно такого происхождения. Он передавался из поколения в поколение с тех времён, как наш далёкий предок выточил наконечник из камня и воткнул его в бок другому нашему предку. Другой пример. В люльке лежит младенец, над ним на паутинке зловещее восьминогое чудище, которое всем своим видом говорит ему: «Бойся меня». Налицо или, если угодно, на лице у ребёнка – приобретённый страх. Согласитесь, к четырнадцати годам мы в какой-то степени готовы к подобным страхам, и к первому, и ко второму. Но!.. Но во мне, как и в Терезе Брэнтон, не было защитного механизма, защитного рефлекса остаться самим собой в момент, когда я увидел то, что увидел. Почему, Дэниел? Ответьте, пожалуйста.