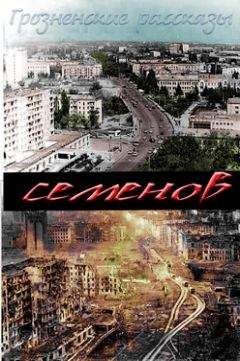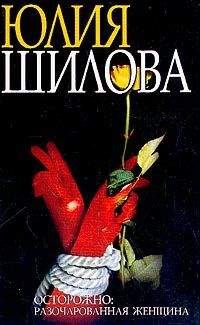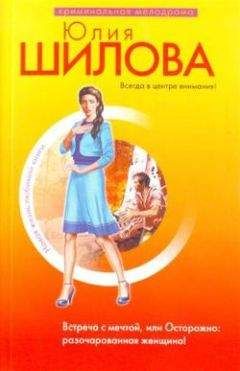Ольга Денисова - Вечный колокол
— Молодец, сын.
Как будто в этом была какая-то заслуга Млада.
— Из тех, кому я пробовал лечить такие раны, не выжил ни один, — сказал отец и сжал ему пальцы чуть сильней, — это действительно воля к жизни, больше я ничем не могу это объяснить.
Млад кивнул.
— Тебе не холодно?
Отец каждый раз спрашивал, не холодно ли ему, и клал руку ему на лоб.
Холодно Младу стало на следующее утро. Он проснулся от кашля, и думал, что в палате открыты окна и двери, и мороз должен покрыть инеем пол и расписные стены. У него стучали зубы. Он пытался натянуть плащ повыше, к самому подбородку, но дрожащие пальцы не могли удержать скользкий мех.
За окном шел дождь…
Не надо было быть врачом, чтоб понять: это горячка. Отец напрасно радовался: загноившаяся рана убьет еще верней, чем кровь в дыхательном горле. Кашель не давал вздохнуть…
— Лютик, — отец спал за загородкой и вышел, разбуженный кашлем Млада, — ты чего?
— Мне холодно, бать, — ответил Млад и закашлялся снова.
Отец тут же кинулся разматывать повязки, и от этого стало еще холодней — Млада начал бить озноб.
— Нет, рана чистая, — Младу показалось, отец выдохнул с облегчением, — это легкое. Тоже опасно, но мы поборемся…
Ширяй кутал его в одеяла, поил горячим отваром, сделанным отцом, клал в ноги нагретые камни — Млад не мог согреться. А к вечеру ему стало жарко — так жарко, будто рядом горел огонь и обжигал кожу.
Следующие дни Млад помнил очень плохо — он то горел в огне, то мерз, то обливался потом и от слабости не мог шевельнуться. К нему приходила Дана — он запомнил это очень хорошо. Он говорил с ней, жаловался, обещал остаться в живых — ее прохладные руки остужали лоб. Но однажды, очнувшись от забытья, увидел, что за ним ухаживает совсем другая женщина — молодая и красивая псковитянка. Ширяй сидел с ним ночами, а днем его сменяла эта женщина.
Кашель мучил его день и ночь, и с каждым днем боль в ране становилась все сильней, пока не стала нестерпимой. Отец, делая перевязки, говорил, что гноя нет, рана чистая и не верил — не хотел верить — что с ней что-то не так.
— Лютик, это от кашля. Ты просто ослаб, тебе кажется.
— Бать, не может быть. Не могу больше, бать… сил нет терпеть.
— Лютик, это легкое. Я ничего не вижу. Ты же знаешь, я пальцами вижу, мне внутрь заглядывать не надо. Рана и должна болеть, сильно болеть.
— Почему же она раньше так не болела?
— Это от кашля, Лютик, говорю тебе. Ты устал, у тебя горячка. Это пройдет… Еще немного, и это пройдет. У тебя и кашель стал слабей, ты поправляешься.
И Млад опять горел в огне, и снова уходил в забытье, и белый туман сгущался вокруг, но не остужал огня и не снимал боли. Страх смерти витал над ним и рождался в левой стороне груди — с каждым зыбким ударом сердца. Иногда Млад не мог понять, где болит сильней — справа или слева.
— Дана, милая, если бы ты знала, как мне больно… — шептал он доброй псковитянке.
А когда ее не было рядом, звал Дану, с каждым разом все громче и отчаянней — от крика было немного легче. И однажды ночью он ее увидел — увидел по-настоящему, не перепутал с чужой женщиной. Она спала у себя дома, на широкой кровати под пологом, а на подоконнике горела маленькая масляная лампа. Млад позвал ее тихо, боясь напугать, но она не проснулась. Ему казалось, стоит ей проснуться, и боль пройдет, а она все не просыпалась, только повернулась на спину, и голова ее металась по подушке, как будто она видела дурной сон. Он кричал в полный голос, а она все не просыпалась. От отчаянья у него из глаз едва не бежали слезы, он кашлял и умолял ее проснуться, и надеялся, что она его когда-нибудь услышит. И она, наконец, услышала. Села на постели, глядя вокруг, и провела тонкими пальцами по лицу, словно избавляясь наваждения. А потом решительно поднялась на ноги и отчетливо сказала:
— Я приеду. Я приеду к тебе. В Псков.
И тут он понял, что наделал, и начал уговаривать ее никуда не ехать, но она одевалась и не слышала его.
— Мстиславич… — Ширяй вытер ему лоб полотенцем, — Мстиславич, тебе совсем плохо? Выпей водички…
Млад открыл глаза и закусил губу — и это тоже оказалось горячечным бредом. От боли темнело в глазах, и смерть ходила где-то рядом, и страх сжимал сердце, словно в кулаке.
— Разбудить доктора Мстислава? — спросил парень — глаза его были испуганными и рука, держащая полотенце, дрожала.
Млад покачал головой — зачем? Но отец проснулся сам, не дожидаясь, когда его позовет Ширяй.
— Лютик, да что ж с тобой? — он нагнулся и посветил свечой Младу в лицо.
— Больно, бать.
— Ноет или стучит?
— Дергает.
Отец сжал губы и начал разматывать повязки. Млад не видел его лица, но понял по глазам Ширяя, что отец увидел что-то страшное. Он надавил на спину рядом с раной, и Млад не смог удержать крика.
— Ах, я дурак… — отец с шумом втянул в себя воздух, — ну почему, почему я ничего не видел? Я не мог такого не увидеть! Словно заклятье кто-то наложил на рану! Чары… Иначе не знаю, что и сказать… Понадеялся на свои пальцы, а головой не подумал… Пока кости кусками через свищи не полезли — не поверил… Зыба! Послушал бы тебя сразу — не так бы все пошло! Зыба!
— Да что там, бать? — спросил Млад сквозь зубы.
— Это кость гниет, сверху и не видно было ничего! Но я не мог, Лютик, ты мне веришь? Я не мог! Такого не бывает, чтоб я не увидел! Зыба!
— Чего? — отозвался его помощник из-за перегородки.
— Зажигай свечи. Не будем ждать утра. Ничего, сын, разрежу, завтра легче будет.
Млад снова закусил губу — ему было страшно представить даже легкое прикосновение к ране.
— Ты только шепчи погромче, — выдавил он, чувствуя, как тошнота подходит к горлу и тело сотрясает волна дрожи.
От боли он перестал ощущать себя человеком: у него не осталось ни капли мужества, ни крохи чувства собственного достоинства. Он рвался, он кричал в полный голос, перебудив всех раненых, а отец не дал ему ничего прикусить — сказал, это бесполезно. Зыба хотел зажать ему рот, но отец не позволил, чтоб Млад мог нормально дышать. Так больно ему было только при пересотворении, но тогда боль не убивала его: он понимал, что властен над своей жизнью и смертью. Теперь же страх застилал глаза, сердце стучало из последних сил, обрывалось дыханье, и душила тошнота. Он терял сознание, но ненадолго — так казалось ему самому.
Давно посветлели окна, а отец все шептал в рану свой бесполезный заговор и долотом выбивал гнилые кусочки кости. Млад охрип и думал, что давно сошел с ума и теперь умирает. Он не помнил, как оказался на нарах, перевязанный и закутанный в одеяла.