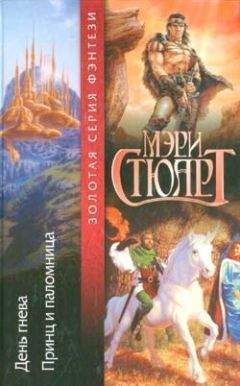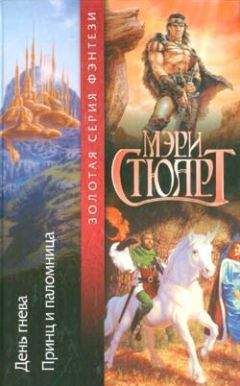Мэри Стюарт - Сага о короле Артуре
— Возвращайся! Тебе нечего бояться.
— Я и не боюсь!
Я отпустил ветки и не без вызова направился к нему. Остановился в нескольких шагах.
— Почему это я должен тебя бояться? Ты знаешь, кто я такой?
Он пригляделся, вроде как поразмыслил…
— Ну-ка, поглядим… Черные волосы, черные глаза, тело танцовщика, повадки волчонка… или, быть может, молодого сокола?
Я уронил руку с кинжалом.
— Так ты меня знаешь?
— Ну, скажем так: я знал, что в один прекрасный день ты приедешь ко мне, а сегодня я понял, что здесь кто-то есть. Как ты думаешь, почему я вернулся так рано?
— А откуда ты узнал, что тут кто-то есть? Ах да, конечно! Летучие мыши!
— Быть может…
— Они каждый раз так вылетают?
— Нет, только когда приходит кто-то чужой. Убери кинжал, господин.
Я сунул кинжал за пояс.
— Меня так никто не зовет. Я бастард. Это значит, что я не принадлежу никому — только самому себе. Меня зовут Мерлин, но это ты уже знаешь.
— А меня — Галапас. Есть хочешь?
— Х-хочу, — сказал я неуверенно: мне вспомнился череп и мертвые летучие мыши.
К моему смущению, он догадался. Серые глаза насмешливо вспыхнули.
— Как насчет яблок и медовых лепешек? И свежей воды из источника? Лучшего не найдешь и в королевском дворце!
— В это время в королевском дворце меня кормить бы не стали, — честно ответил я, — Благодарю тебя, господин. Я буду рад отобедать с тобой.
Он улыбнулся.
— Меня так никто не зовет. И я тоже никому не принадлежу. Иди сядь на солнышке, а я вынесу поесть.
Яблоки оказались на вид и на вкус точь-в-точь такие же, как в саду моего деда, так что я украдкой косился на моего гостеприимного хозяина, разглядывая его при солнечном свете и соображая, мог ли видеть его на берегу или в городе.
— Ты женат? — спросил я, — Кто печет тебе эти лепешки? Они очень вкусные!
— Я не женат. Я же сказал, что не принадлежу никому, ни мужчине, ни женщине. Вот увидишь, Мерлин: люди — и мужчины, и женщины — всю жизнь будут пытаться упрятать тебя в клетку, но ты будешь ускользать от них, или сминать решетку, или плавить ее — как тебе угодно, — пока наконец не дашь добровольно запереть себя в клетке и не уснешь в ее тени… А лепешки мне печет жена пастуха. Она делает их столько, что хватает на троих, и по доброте душевной уделяет часть мне.
— Так ты отшельник, да? Святой человек?
— Я что, похож на святого человека?
— Не-ет!
Это была правда. Насколько я помню, единственные, кого я боялся в то время, были одинокие святые люди, которые временами забредали в наш город, проповедовали и просили милостыню; странные, надменные, шумные, с сумасшедшинкой в глазах, а пахло от них точь-в-точь как от отбросов, сваленных возле боен. Временами трудно было определить, какому богу они служат. Поговаривали, что среди них есть друиды, которые официально находились вне закона, но по деревням Уэльса они отправляли свои обряды по-прежнему, и никто их особенно не беспокоил. Немало было приверженцев местных божеств; и, поскольку популярность этих богов менялась в зависимости от времени года, жрецы тоже меняли своих покровителей в зависимости от того, какому имени подавали больше. Даже христианские священники иногда так поступали, но настоящих христиан отличить бывало нетрудно: они выглядели самыми грязными. Римские боги и их служители спокойно сидели в своих рушащихся храмах, но ничего не имели против приношений. Церковь косилась на них, но ничего поделать не могла.
— Там, у источника, бог… — осторожно сказал я.
— Да, Мирдцин. Он делится со мной водой, и полым холмом, и небом, наполненным переливами света, а я за это воздаю ему должное. Не подобает пренебрегать местными богами, кем бы они ни были. В конце концов, все они — одно.
— Но если ты не отшельник, тогда кто же ты?
— Ну, сейчас, например, я учитель.
— У меня тоже есть наставник. Он прибыл из Массилии, но родился он в Риме. А кого ты учишь?
— До сих пор я никого не учил, потому что стар и устал от жизни. Я поселился тут в одиночестве и занимаюсь науками.
— А зачем тебе дохлые мыши там, на сундуке?
— Я их изучаю.
Я изумленно уставился на него.
— Изучаешь? Как можно изучать мышей?
— Я изучаю, как они устроены, как летают, как спариваются, как питаются, как они живут. И не только мышей, но и других животных, рыб, растения, птиц — все, что я вижу вокруг.
— Какая же это наука! — Я смотрел на него с изумлением. — Деметрий — это мой наставник — говорит, что смотреть на ящериц и птиц — только мечтания и пустая трата времени. Хотя Кердик, мой друг, советовал мне учиться у вяхирей.
— Чему же?
— Быть проворным, тихим и уметь скрываться из виду. Потому что, хотя вяхирь откладывает всего два яйца и все на него охотятся — и люди, и звери, и коршуны, — вяхирей все равно больше, чем всех прочих птиц. И еще, их не держат в клетках.
Он отхлебнул воды и взглянул на меня.
— Так у тебя есть наставник. Значит, ты умеешь читать?
— Конечно!
— А по-гречески читаешь?
— Немного.
— Тогда пошли.
Он встал и направился в пещеру. Я последовал за ним. Старик снова зажег свечу — перед тем он погасил ее, чтобы не горела зря, — и откинул крышку сундука. В нем лежали книги-свитки — я думал, что столько и на всем свете нет. Он выбрал одну из них, аккуратно опустил крышку и развернул книгу.
— Смотри.
Я с восхищением увидел, что в книге нарисован скелет летучей мыши.
Рисунок был тонкий, но очень отчетливый. А рядом — мелкие, непонятные греческие буквы. Я тут же принялся разбирать их, читая вслух, забыв даже о присутствии Галапаса.
Через пару минут на плечо мне легла его рука.
— Пошли на улицу.
Он выдернул гвозди, которыми было прикреплено к доске высохшее кожистое тельце, и бережно положил его на ладонь.
— Задуй свечу. Давай поглядим вместе.
Так, без долгих разговоров и церемоний, начался мой первый урок с Галапасом.
Лишь когда заходящее солнце коснулось гребня холма и по склону поползли длинные тени, я вспомнил об иной жизни, что ждала меня дома, и о том, как далеко мне возвращаться. Я вскочил.
— Мне ехать надо! Деметрий, конечно, ничего не скажет, но если я опоздаю к ужину, меня спросят, где я был.
— А ты им говорить не собираешься?
— Нет. А то мне не разрешат приехать снова.
Он улыбнулся, но ничего не сказал. Наверно, тогда я даже не замечал, что вся наша беседа была построена на некоем молчаливом соглашении: он не спросил ни как я сюда попал, ни зачем. Я был еще ребенком и потому принимал это как нечто само собой разумеющееся. Но все же спросил из вежливости: