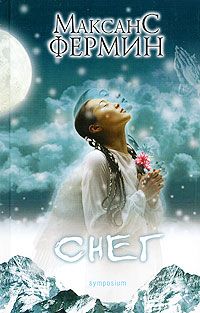Р. Скотт Бэккер - Око Судии
Дверь была распахнута — как и было обещано.
Вдоль всего коридора были расставлены приземистые свечки, отбрасывавшие на декоративную мозаику стен конусы света. Из темноты возникали и снова исчезали фигуры, тени людей, борющихся с дикими зверями. Глубоко дыша, Ахкеймион захлопнул дверь, лязгнуло железо. Тяжелый камень Пристроек поглотил все звуки, кроме шипения огоньков свечей, трепетавших от его движения. Воздух был пропитан смолистыми ароматами.
Когда он нашел ее — Суриалу, блистательную и распутную Суриалу, — он преклонил колено в согласии с тем самым законом, который намеревался нарушить. Он склонился перед ее красотой, ее жаждой, ее страстью. Она подняла его с колен и заключила в объятия, и он увидел в декоративном щите отражения их сплетенных тел. Отражения были неверными и надломленными — «так оно и есть», — подумал он и увлек ее в постель…
Занялся любовью с женой своего верховного короля…
Судорожный вздох.
Ахкеймион рывком сел на кровати. Темнота звенела от напряжения, стенала и задыхалась от женской страсти — но лишь один миг. Через несколько ударов сердца слух его наполнил зов утреннего птичьего хора. Отбросив одеяла, Ахкеймион согнулся к коленям, потер ноющую скулу и щеку. Он привык спать на досках — это стало частью его обета, который он начал исполнять с тех пор, как покинул школу Завета, а также облегчал переход от ночных кошмаров к яви. Тюфяки, как выяснилось, превращали пробуждение в удушье.
Он посидел, стараясь усилием воли избавиться от возбуждения, изгнать воспоминание о наготе, льнущей к его обнаженному телу. Будь он по-прежнему колдуном Завета, он бы с криками побежал к братьям. Но он уже не принадлежал школе и среди откровений жил уже слишком давно. Озарения, которые прежде терзали бы его тело ликованием или ужасом, теперь просто пульсировали внутри. Это открытие стало еще одной его болью.
Сопя и кашляя, он доковылял по дощатому полу до квадратной короны белого света, обрамлявшей ставни.
— Солнца пролить на это все, — пробормотал он сам себе. — Да-да… Свет — он всегда полезен.
Он зажмурился от яркости, глубоко вдохнул разнообразные запахи утра: горечь распускающихся листьев, влага лесной земли. Внизу звенели вверх детские крики, требовательные и задиристые — разноголосица беззаботных душ. «А я тебе не верю, я тебе не верю!» Родители — рабы Ахкеймиона — выгоняли их с нижних этажей, и по утрам ребятня вечно буянила в тени башни, носясь и щебеча, как затеявшие перепалку скворцы. Сегодня почему-то слышать их казалось высшим чудом — Ахкеймион так бы и простоял остаток жизни: здесь и сейчас, закрыв глаза и раскрыв все остальные чувства.
«Это был бы хороший конец», — подумал он.
Щурясь от яркого света, он повернулся и взглянул на комнату, на ее полки и грубо обтесанные столы, на бесконечные свитки записей, которые шаткими грудами завалили все возможные поверхности. Плавный изгиб каменных стен таил утренний полумрак, а пазы бревен придавали комнате вид галеотской мельницы. Широкий камин праздно простаивал напротив дощатой кровати. Над головой, почерневшие от копоти, шли могучие потолочные балки, промежутки между которыми были заделаны шкурами — волка, оленя, даже зайца и куницы.
Ахкеймион улыбнулся грустной кривой улыбкой. Где-то в глубине его души полузабытое воспоминание морщилось от грубой безвкусицы этого жилища — как-никак, добрую часть своей жизни он провел по увеселительным заведениям Юга. Но здесь уже так давно был его дом, что никаких других чувств, кроме чувства безопасности, не возникало. Вот уже почти двадцать лет он спал, работал и трапезничал в этой комнате.
Теперь его вели иные дороги. Уходящие неизмеримо дальше.
Как же долго он странствовал?
Кажется, всю жизнь, хотя магом он стал всего двадцать лет назад.
Глубоко вздохнув, он провел рукой по лысеющей голове и косматой белой бороде и подошел к рабочему столу, настраиваясь на насыщенное повествование…
На кропотливый труд переносить на бумагу запутанный жизненный лабиринт Сесватхи.
Он надеялся написать подробный отчет обо всем, что помнит. За долгие годы у него развился дар вспоминать, что видел во сне. Скопились тысячи историй, каждая из которых становилась объектом бесконечного критического анализа и размышлений. Писать по памяти — занятие коварное: иногда казалось, что помнится лишь основной костяк событий, а плоть повествования приходилось с каждым воскрешением придумывать заново. Но в Снах все было устроено причудливо, даже когда его забрасывало в самую глубь жизни Сесватхи. Главное, понял Ахкеймион, было начинать писать немедленно, пока не погасла картинка под грубым напором мира бодрствования.
Но вместо этого написал он только:
НАУ-КАЙЮТИ?
Он вдруг понял, что целое утро разглядывает эту чернильную надпись: имя прославленного сына Кельмомаса, который похитил Копье-Цаплю, что привело впоследствии к окончательному уничтожению Не-Бога. В библиотеках Завета его подвигам были посвящены десятки, если не сотни томов — как нетрудно было догадаться, главным образом описывавшие: убийство Танхафута Красного, череду побед после катастрофы при Шиарау, смерть от руки его жены Иэвы и, разумеется, бесконечные интерпретации темы Похищения. Но несколько адептов — Ахкеймион мог припомнить по крайней мере двух — обратили внимание на частоту Снов с участием Нау-Кайюти, что казалось несоизмеримым с его эпизодической ролью в Апокалипсисе.
Но если Сесватха делил ложе с матерью Нау-Кайюти…
Откровение об адюльтере было само по себе значимо — и оно терзало старого колдуна по причинам, о которых он не решался задумываться. Но возможно ли, чтобы Сесватха был отцом Нау-Кайюти? Не все факты равнозначны. Некоторые, подобно листве, висят на ветвях более важных истин. Другие стоят, как стволы, подпирая убеждения целых народов. А некоторые — удручающе малое их количество — это семена.
Он перебирал все подробности, которые могли позволить ему датировать сон — кто из рыцарей-военачальников все еще был в фаворе за столом верховного короля, какие кольца носил Сесватха, какие татуировки, способствующие плодовитости, были наколоты на внутренней стороне бедер королевы, — когда один из детских голосов пробил пелену его слабеющего внимания. «А это далеко-о-о-о?» Щебечущий голосок девочки, который на расстоянии звучал тоненько, как тростинка. Он узнал малышку Сильханну.
Какая-то женщина ответила ей, что-то ласковое и неразборчивое.
Не столько голос, сколько акцент заставил его, спотыкаясь, понестись к открытому окну. Ахкеймион прикрыл глаза, ухватившись от внезапного головокружения за потрескавшийся и выщербленный подоконник. Это был шейский, язык общения Новой Империи, но играющий мелодичными южными интонациями. Нансурка? Айнонка?