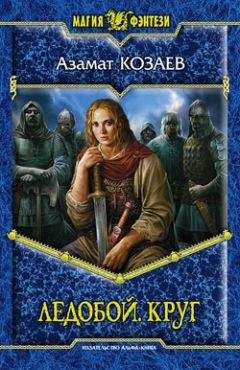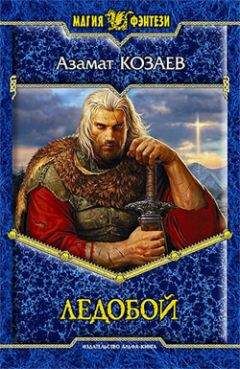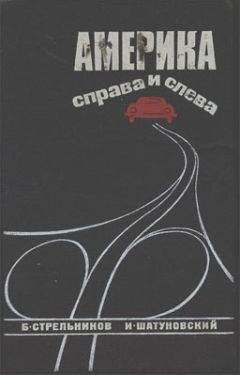Ледобой. Зов (СИ) - Козаев Азамат Владимирович
— Четыре меча в бока, две секиры в ноги, сулица в грудь, две стрелы в спину.
— А потом как?
— Два дня полз. Да только не в ту сторону. Мне бы к людям, а я на пустоши попёрся. Перед глазами всё плыло. Как не сдох, ума не приложу. На берегу подобрали. Находнички. Такие же, как наши, только другие. Ну… подлатали, заштопали. И пошёл мой меч по рукам. Из одной ватаги в другую.
— Ты ведь без пары дней был князь… По ватагам?
Верна от ужаса прикрыла рот рукой. Случилась бы тогда их свадьба, два соседних княжества слились бы в одно, отец отошёл бы от дел, удил бы рыбу утренними зорями да внуков поджидал. Ну подсказывал бы временами зятю на ушко, а уж меч, в котором солнцу купаться-отражаться на выглаженном до блеска лезвии, совсем рядом нашёлся. Если впустили тебя в свою жизнь, так и входишь в чужую душу, как в хозяйский дом: осторожно, с носочка, разуваешься на порожке, дабы не наследить, а приходит Незван Нежданович, ударом ноги сносит дверь с петель, следит сапожищами, и под конец плюёт на пол, да поджигает гостеприимные хоромы. Саму, отбитую, ровно телячью вырезку, увезли за тридевять земель, а без двух дней князь, вполовину обескровленный, приходит в себя от росяной прохлады, и начинается для него жизнь перекати-поля, бродяги с мечом, без родни, без родины, без семьи и без смысла жизни. Тут главное в себя не глядеться, не терзаться глупыми вопросами: «А куда делся тот причал, пристав к которому, отпускаешь из груди крик: 'До-о-ом!» Нет больше дома, в себя лучше не таращиться: всё равно ничего не высмотришь, и единственное, что глядит на тебя из собственных же глубин — безнадёга. И ведь приходит зараза со всем вежеством: не с пустыми руками — верёвку в подарок тащит, да уже с узлом. И на сук показывает: Вот этот подойдёт.
— По ватагам, — Грюй мрачно кивнул, — Сегодня здесь, завтра там. Сегодня тебя вскрыли, чисто свиную тушу, завтра ты.
— Судьба скверно шутит, — Верна стояла прямо, ровно, усилием воли держала колени в замке, и только голос дрожал.
— Я сказал бы сильнее, — Рубцеватый ощерился, презрительно плюнул наземь. — Она переменчива, как в дымину пьяная потаскуха. Сегодня ты просыпаешься в княжеских палатах, под стеганым, расшитым одеялом, завтра — под ладейной доской, а на тебе покоится чья-то нога в дырявом сапоге. А придётся помирать, так и не узнаешь, кем назваться перед Небесным Воеводой: князем или приборщиком отхожих мест. И знаешь, что я понял?
Верна кивком спросила. Что?
— Только от тебя зависит, кем себя считать.
— И что ты скажешь Ратнику?
Когда-то надо решаться, ведь порвут надвое, ох, порвут. Знала, что погибли родные, знала, что больше не придётся увидеть и вроде успокоилась. А тут на тебе! Вот он, стоит, один из тех, кого «убили», кого не придётся больше лицезреть! В груди жаровня разгорается, каждый миг промедления палит, ровно кострищное пламя, сил больше нет, так хочется даже не спросить, а крикнуть на весь Скалистый: «Да не молчи ты! Говори, что с отцом, с мамой, с сёстрами? Видел же! Я знаю, видел!» В другую сторону ужас тянет, и боязно делается так, что скоро пар заклубится из ноздрей, как зимой — такой озноб от страха колотит. А ну как выяснится, что целый вечер напрасная надежда колотила, дышать не давала? Второй раз умереть?
— Скажу, как есть, — Грюй улыбнулся, и волчье-хищной показалась Верне его улыбка: видимо, кто-то ещё за прошедшие годы серой шерстью оброс да зубищи отрастил. — Князь Грюй. Я. Князь. Грюй. И это моя жизнь. И какой она должна быть, выберу я сам! Вот что услышит Небесный Воевода, когда придёт мой черёд.
Давай, папкина дочка, мамкина любимица, вперёд, только будь готова к тому, что станет плохо. Когда начнешь произносить: «Ты видел, что стало с моими?» сердце разойдётся, будто конь в намёте, от шума полыхнёт в голове, ладони вмиг станут липкими, и во рту закислит, чисто ржавый меч лизнула. Давай… головой в обрыв… пошло… дурнота затопила нутро, поднимается к горлу…
— Грюй, ты… видел, как моих… ты видел?
Бум… бум… бум… ровно затычки в уши сунула. Слышно плохо, будто снова в детство попала — голова перемотана тряпицей, мама рядом кудахчет: «Болячка поболи, да с миром уйди, всё оставь как было, да чтобы не убыло». Грюй что-то говорит, да только слова через шум в ушах лезут плохо, застревают. И в груди воротит, блевать тянет.
— Отца зарубили, сам видел. Серый Конь вокруг себя трупов накрутил, только и его достали.
— А мама?
Сама себя еле услышала. Грюй опустил глаза, только на какое-то мгновение его будто перекосило, и губа по-волчьи дёрнулась.
— Её… в общем, она не выжила. Подробности нужны?
Колени, сучки хитрые, как ни крепила, какие замки ни подобрала, нашли отмычку, освободились, пошли вразнос, зажили своей жизнью. Растрясли ноги, едва вовсе наземь не уронили. Пришлось за Грюя хвататься.
— Не… выжила?
Что хочет сказать вой, когда прячет глаза и скупо отрезает: «Не выжила»? Верна, Вернушка, ты на самом деле хочешь это знать?
— Не выжила, — Рубцеватый крепко держал за руку ту, что женой так и не стала, только и добавил потом. — Она ведь красивая была.
— А… сёстры? Ромашка? Колоколица?
Воевода спесяевских мрачно пожал плечами. Не знаю.
— Видел, тащили их куда-то, а живы ли…
Кончился терпёж, пополз огонь по кишкам наверх. Верну переломило в поясе, швырнуло вперёд, и упала бы она на колени, когда бы не повисла на руке Грюя — так её, сломанную пополам, и вывернуло наизнанку.
— Ты плачь, плачь…
«Плачу, плачу». В голове ровно молот забухал, виски разламывает, затылок будто тараном выносит, и от одного слова «мама», произнесённого немо, про себя, раз за разом на части рвёт, тошнота волнами накатывает. А ещё эта сова. Орёт в лесу, будто режут её. Никогда тут совы не орали, а ты гляди, нашлась одна. Рвало бы тебя изнутри, тащило бы из тебя потроха наружу, поглядеть, как ты орала бы.
— Всё… всё.
Он даже услышал не с первого раза. Помог выпрямиться, рукавом утёр ей губы, усадить было некуда, так подвёл к дереву, заставил спиной прислониться.
— Дыши.
Нет сил стоять, хочется повалиться на траву и уснуть к Злобожьей матери. Глазами показала, дышу. Грюй прицепил светоч на сучок низковисящей ветки, зачем-то ещё раз повторил:
— Вот так нас доля-судьба оприходовала.
Верна без сил прижалась затылком к стволу ясеня, молча кивнула глазами. Да, оприходовала.
— Только мы должны быть сильными, слышишь, Верная? Сильными!
— Ты когда-то на самом деле звал меня Верная.
— И лишь мы сами для себя решаем, кем представимся в свой черёд, я — перед Небесным Воеводой, ты — перед Матерью Матерей. Сама реши кто ты: моя Верная или… — тут голос Грюя зазвенел, ровно меч полез на белый свет из ножен, — жена убийцы и душегуба!
Сова орёт. Вот дура. Грюй орёт. Зачем? Что в таких случаях говорит Тычок? Когда старый егоз, приседая, хлопает себя по ляжкам и открывает рот, эхо почему-то подхватывает последнее «мать» и долго катает по просторам.
— Что?
Грюй жёстко отчеканил:
— Я — князь Грюй. Это моя судьба. Это я. Моя судьба — не скамья гребца на ватажных ладьях, а светлый дом, жена Верна и крепкие сыновья. Только ведь и твоя судьба — не участь жены воеводы на тутошней заставе, а доля возлюбленной князя Грюя!
— Ты бредишь!
— Я в своём уме, — Рубцеватый хищно ощерился. — А вот тебя заморочили, отвели глаза, лишили разума! Я заглянул давеча в глаза твоему старшему сыну, и знаешь, кого в них увидел?
Верна рванула ворот платья: дышать что-то сделалось тяжело, испарина выступила, и за какое-то мгновение вымокла, ровно из воды вылезла.
— Что ты увидел?
— Глаза того ублюдка, который разорил наш дом! О-о-о, я узнал этот холодный, пронзительный блеск! Его стылые гляделки — то последнее, что я увидел, прежде чем закрыл свои! Эта тварь заморочила тебя, и ты рожаешь порождений зла одного за одним!
— Ты хворый! Не в себе!
— Это ты не в себе! — мгновение назад он орал, потеряв самообладание, теперь же придушил крик, уперев палец Верне в грудь. — Ты моя! Слышишь, моя! Только не говори, что это не он!