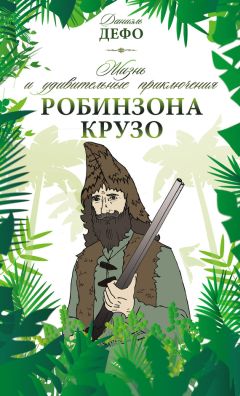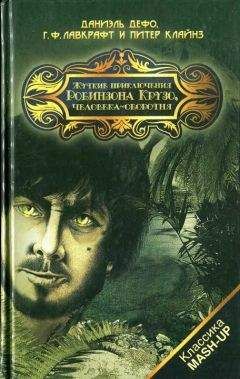Алана Инош - Гроза
– Ты где сейчас вообще? – обеспокоилась комната с лампой и компьютером.
– Где я? – Люба хлопнула на себе комара. – Сижу на дереве, зад чешу! Рокерша, не задавай глупых вопросов. Неважно где я, важно, что со мной происходит. А происходит со мной то, что я втрескалась по самые миндалины.
– Ну хорошо, – с терпеливым спокойствием доктора, слушающего пациента-неврастеника, ответила далёкая уютная комната. – Это замечательно. И кто же сей счастливчик?
– А вот тут ты, сестрёнка, промахнулась. – Люба засмеялась и растянулась на земле, чувствуя спиной все бугорки, все колючие травинки и растворяясь в шелесте тёмных крон. – Это не он. Это она.
Как она могла простыми, дешёвыми словами передать сладкий ток и пульсацию нежности, что билась в жилках деревьев, дышала небесной тьмой, кричала ночной птицей, звенела струнами? Не находилось словесного выражения у изгиба грустных, шелковистых бровей, нервно чувствовавших каждую ноту, каждую волну лирического чувства, нельзя было разложить на слоги и буквы рубиновый свет души. Это следовало только петь, что Люба и сделала.
– Э, генацвале! – возмутилась комната на том конце линии. – Хватит терзать мне уши плохими пародиями на Сосо Павлиашвили. Ты скажи лучше толком, как всё получилось-то?
Люба плохо представляла себе сейчас, как это – «сказать толком», но она каким-то образом рассказала. Комната сопела в трубку.
– Блин, как тебя легко развести! – проворчала она. – Одна песенка под гитару – и всё, ты уже поплыла!
– Куда я поплыла? – нахмурилась Люба.
– Да хоть прямиком в постель! – буркнул, похоже, один из плакатов. – Готов пирожок – разевай роток…
– Рокерша, ты ничего не понимаешь, – сказала Люба, морщась от банальности своих слов, но всё же пользуясь ими для убеждения этого примитивно мыслящего существа на том конце «провода». – Это надо слышать своими ушами и видеть своими глазами. И вообще, знать её. Она – порядочная, умная, грустная… Эта… эта… эта сука её бросила, я знаю. Ей до сих пор больно.
– Угум, она бросила, а ты решила подобрать. Ага. – Настольная лампа иронично мигнула. – Короче, мать… Иди-ка ты спать. Проспись сначала, а дальше видно будет. Всё, давай, споки-ноки, чмоки-чмоки. Мне работать надо.
Утром все встали вялые, помятые, бледные. Отец налил себе полную кружку пива из холодильника и залпом выпил, крякнув, причмокнув и облизнув пену с губ, мама возилась с заваркой чая с чабрецом, а бабушка приняла таблетку от давления, отмахиваясь от Пушка.
– Уйди ты, дармоед. Охламон лохматый…
Достав нераспечатанную полуторалитровую бутылку пива, отец вразвалочку направился к калитке. Мама тут же насторожилась:
– Ты куда это намылился, м?
– Дык… У Леры-то, поди, тоже отходнячок, – с кудахчущим смешком отозвался отец. – Отнесу ей хоть.
– Так, Сорокин! – В голосе мамы прозвенел суровый металл, а слова без паузы слились в одно грозно-хлёсткое «таксорокин». – Ты, похоже, жаждешь продолжения банкета? А кому завтра на работу, а?
– Да ничего я не жажду, – огрызнулся отец, но сдался и никуда не пошёл.
– Я ей лучше водички холодненькой отнесу, вдруг у неё нет. – Люба взяла бутылку охлаждённой минералки и легконогой козочкой помчалась на участок Нины Антоновны. Возражений от мамы вслед не послышалось.
Вчерашний хмель сошёл мутной пеной, но драгоценные жемчужины-песни остались поблёскивать на светлом песке, чистые, недосягаемые для суеты и пошлости. Сердце вместе с ногами отстукивало каждый шаг до новой встречи, ветер обдувал плечи и играл с волосами, запотевшая бутылка холодила ладони.
– Лера! Вы дома? – позвала Люба, постучав в калитку.
Никто не отзывался, но калитка не была заперта изнутри. Воровато оглядевшись по сторонам, девушка вошла сама. Вот и сирень, которую Валерия вчера обломала для букета… Внутри всё трепетно и сладко сжалось: «Это вам, мадемуазель».
– Лера! Извините, если беспокою… – Люба постучалась в дверь домика.
За минуту ожидания сердце отбило в три раза больше ударов, чем было в ней секунд. Дверь открылась, и на пороге показалась, заспанно щурясь, Валерия в носках и наспех застёгнутой, выбившейся из джинсов рубашке. Причесалась она, похоже, пятернёй на ходу, а её сапоги стояли около двери, как странный привет из вестерна. Типично старушечью комнатку с древней мебелью, вязаными круглыми ковриками и цветами в горшках ярко заливал солнечный свет; он же блестел на стеклянном боку коньячной бутылки, пустой на три четверти (другой, а не той, что стояла на столе с шашлыками), и на пупырчатой корочке лимона на блюдце, от которого были отрезаны несколько ломтиков.
– У-у, да у тебя тут, похоже, случилось, как выражается мама, продолжение банкета, – усмехнулась Люба, переходя на «ты»: теперь их никто не мог слышать.
Валерия с шумом втянула воздух, встряхнула головой, протирая ладонями глаза, потом бросила хмурый взгляд в сторону стола с остатками «банкета» и усмехнулась:
– Да, кажется, это был уже перебор.
– Вот… – Люба неуверенно протянула ей воду. – Я тут тебе принесла… Как чувствовала, наверно, что пригодится.
– Да уж, – хрипло хмыкнула Валерия. – Спасибо, Любушка. О, холодненькая…
Из-под крышки с шипением вырвался газ, и она надолго приникла к горлышку, а основательно утолив жажду, смочила виски и лоб. Потом, что-то вспомнив, потянулась к вешалке:
– Да, точно, я же вчера в твоей шляпе ушла.
Люба вернула шляпу на крючок, скользнула пальцами в растрёпанные волосы Валерии.
– Оставь, это подарок.
Несколько мгновений Валерия с закрытыми глазами прислушивалась к прикосновениям, и её бледное лицо разглаживалось, становясь нежно-задумчивым. Когда веки поднялись, из чайной глубины её глаз на Любу дохнуло осенним холодом.
– Извини за вчерашнее. Я перебрала и потеряла берега…
– Незачем извиняться, Лер.
Приблизившись к ней вплотную, Люба оплела её шею кольцом объятий. Сердце скакало галопом, по плечам растекался плащ мурашек, а внутри ёкал и пульсировал горячий комочек. Валерия отвернулась – наверно, чтобы не дохнуть на Любу перегаром.
– Любушка, прости… Лучше забыть это.
Её ладони легли на плечи девушки и мягко, но решительно отстранили её. От этого прикосновения вниз по телу Любы стекала леденящая слабость, превращая руки в варёные спагетти, заполняя грудь и подкашивая ноги.