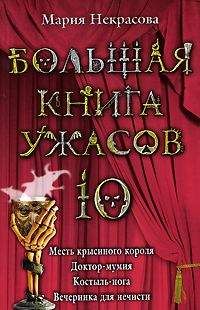Константин Соловьев - Геносказка
— Да.
— Но до образования зиготы дело, как я понимаю, не дошло?
— Будь добра выражаться человеческим языком!
— Ваш генетический материал…
— Не смешивался, — буркнул Гензель. — Я же сказал. Мы не успели. Только скинули одежду, и… Это все из-за меня.
— Что ты сделал?
— Я дал ей яблоко.
Ему показалось, что в ледяной броне Гретель возникла брешь, сквозь которую, как из пробоины, вновь может полыхнуть живое человеческое пламя. Глаза Гретель раскрылись шире, чем обычно.
— Ты — что?
— Дал ей яблоко, — повторил Гензель тихо. — Да, это было глупо. Я нарушил наш уговор. Знаю. Готов тысячу раз раскаяться и объявить себя круглым дураком. Но давай оставим разбирательства на потом. Надо спасти Бланко.
Гретель осталась невозмутимой, лишь коротко усмехнулась.
— Ты удивил меня, братец. Не ожидала. Ладно, не суть важно. Что было дальше?
— Ну… Она откусила от яблока… Один маленький кусочек! Потом у нее остановился взгляд, глаза закатились… Дыхание стало рваным, пульс задергался. Я попытался привести ее в чувство, но бесполезно. Пульс слабел с каждой секундой. Тогда я схватил ее и потащил в лазарет.
— Почему туда?
— А куда еще? — огрызнулся Гензель, стараясь не глядеть на сестру. — Я же не знал, что с ней! Я не врач.
— Я тоже. Но яблочки-то наши — с генетической начинкой… Пошли посмотрим на твою принцессу. Хотя, признаться, я не понимаю, что тебя беспокоит. Ты сам дал ей…
— Гретель!
— Я уже готова. Пошли.
При тусклом ночном освещении коридоры подземной крепости выглядели тревожно и зловеще. Вентиляционные каналы негромко шипели, и от одного этого звука делалось до крайности неуютно — точно шипение это производили огромные стальные змеи, затаившиеся в полумраке. Брошенная принцессой крепость казалась опасным подземным логовом, полным неизвестных гадов. По счастью, далеко идти им не пришлось. Шли в молчании. Гретель больше ничего не спрашивала, а Гензель, стиснув зубы, глядел себе под ноги.
В лаборатории оказалось светло, но свет здесь был неестественным, рассеянным, отливающим больничной синевой. В таком свете человеческая кожа выглядит синюшной, как у мертвеца.
Принцесса Бланко лежала в гробу посреди лаборатории.
Гроб. В который раз увидев этот аппарат, Гензель подумал о том, до чего удачно приклеилось к нему это прозвище. И верно гроб. Большой прозрачный ящик со стеклянной крышкой, этакий саркофаг из горного хрусталя. И в этом хрустале — крошечная обнаженная человеческая фигурка с безжизненно распростертыми руками. И волосами цвета легкого налета ржавчины.
Принцесса Бланко лежала с закрытыми глазами. Рот ее был открыт, губы неестественно побелели, окостенев в последнем выдохе и обнажив ряды ровных белоснежных зубов. Гензель попытался оторвать от них взгляд, но не смог. Эти губы помнили вкус его кожи. Эти губы он целовал час назад. А сейчас они казались твердым пластиком, холодным и гладким.
Гензель заметил, что его бьет мелкая дрожь. Обнаженное тело принцессы, заточенное в хрустале, выглядело почти детским. Невозможно было вспомнить, как он прикасался к нему, как гладил его мягкую кожу. То, что лежало в гробу, уже не выглядело человеком. Скорее, каким-то жутким экспонатом в специальной камере, выставленным на всеобщее обозрение.
«Человеческое тело, храм духа, — с горечью подумал Гензель, бессильный оторвать от принцессы взгляд, ставший вдруг тяжелым и непослушным, точно не глазами надо ворочать, а многотонными чугунными шарами. — Сколько проповедей я слышал о том, что само человеческое тело, лишенное генетических пороков, есть чудо и величайшее из чудес света, прекраснейшее его явление. И вот это тело лежит передо мной в своей первозданной красоте. Оно почти идеально, по крайней мере внешне. Оно, без сомнения, человеческое. Сложнейший биологический механизм, совершенней которого невозможно и придумать. А я смотрю на это тело и чувствую такое опустошение, словно из меня выпустили всю кровь, и в пустых жилах гуляет холодный ветер. Вот оно, чудо, лежит передо мной. Но без той самой малости, без самой Бланко, оно уже не кажется чудом. Оно кажется лишь плотью, равнодушной сырой плотью. Из чуда пропала одна крошечная деталь — и само чудо тоже пропало».
— Откуда здесь взялись цверги?
— Сами пришли. Через минуту после того, как я… Наверно, что-то почувствовали. Но ведут себя смирно.
Цверги стояли поодаль от гроба, но если раньше они казались королевской свитой, то теперь — погребальной процессией, выстроившейся в ожидании торжественного момента. Взгляд желтых глаз — недвижим, а сами глаза кажутся потухшими, как выключенные фары. Удивительная метаморфоза, искать объяснения которой Гензель не хотел. Не цверги сейчас были проблемой.
— Что с принцессой? — требовательно спросил он Гретель.
— Я думала, ты хорошо разбираешься в машинерии.
— В обычной. А это — медицинское оборудование.
Аппаратная панель стазисной камеры пестрела огоньками, как болото — светлячками. Перемаргивались круглые и плоские огоньки, стрекотали без всякого ритма динамики. Гензель не понимал языка этой чудной машины, а машина была равнодушна и к нему, и к Бланко, и ко всему окружающему миру. Машина не разбиралась в чудесах. Она разбиралась только в плоти.
Гретель на несколько секунд замерла, считывая показания. Лицо ее было таким же невыразительным и равнодушным, как терминал стазисной камеры, и Гензель напрасно пытался прочесть по нему хоть что-нибудь.
— Ну! — нетерпеливо воскликнул он. — Что с ней?
Гретель отбросила со лба прядь и провела рукой по хрусталю. Конечно, никакой это не хрусталь, а полимер, но возникало ощущение, что добыли его в этих же горах, под толщей льда и камня.
— Она мертва.
Кто-то ударил молотом ему по груди. Сердце испуганно квакнуло, как раздавленная лягушка, и обмерло, медленно выпуская из себя раскаленную, готовую вот-вот закипеть кровь. Гензель попытался что-то сказать, сам не зная что, но обнаружил, что губы его беспомощно дрожат. Нелепо, стыдно, жалко, но он ничего не мог с собой поделать.
Мальчишка. Заблудившийся в лесу мальчишка.
А потом что-то злое проснулось внутри него и яростно клацнуло зубами:
— Она не может быть мертва!
Гретель мягким жестом указала ему на приборную панель.
— Здесь все показатели. Давления в сосудах нет. Сердце не бьется. Остаточное мозговое излучение. Когда ты опускал ее в гроб, она была уже мертва. И мозг ее тоже мертв до последней клетки. Она умерла, братец. Настолько, насколько это возможно для человеческого существа.
Он уставился на Гретель — чтобы предательский взгляд не перебрался вновь на хрустальную глыбу. Ему вдруг стало казаться, что, если он еще раз взглянет в лицо Бланко, ее глаза внезапно распахнутся. И он встретит взгляд стеклянных мертвых глаз.


![Надежда Кожушаная - Нога [киносценарий]](/uploads/posts/books/276827/276827.jpg)