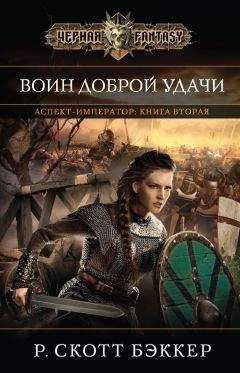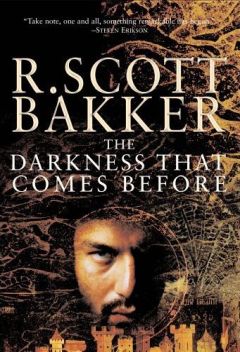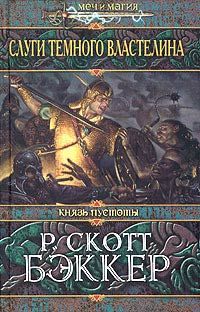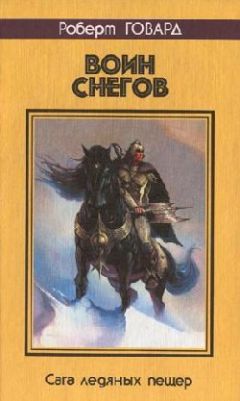Р. Бэккер - Воин кровавых времен
Эсменет нахмурилась. И к чему ведут эти абсурдные рассуждения?
— Ну… чтобы резать его для…
И вдруг ее постигло озарение. По коже побежали мурашки. Она снова сидела в тени, а Келлхус впитал в себя угасающее солнце, став похожим на бронзового идола. Казалось, солнце всегда покидает его последним…
— Мужчины, — сказал Келлхус, — не могут господствовать над своими желаниями, поэтому господствуют над объектами своих желаний. Будь то скот…
— Или женщины, — одними губами произнесла Эсменет. Воздух искрился пониманием.
— Когда один народ, — продолжал Келлхус, — платит дань другому, как кепалранцы — нансурцам, на каком языке эти народы говорят?
— На языке завоевателя.
— А на чьем языке говоришь ты?
Эсменет сглотнула.
— На языке мужчин.
Перед ее мысленным взором мелькала одна картина за другой, один мужчина за другим, согнувшиеся над ней, словно псы…
— Ты видишь себя такой, — сказал Келлхус, — какой тебя видят мужчины. Ты боишься стареть, потому что мужчины предпочитают молодых. Ты одеваешься бесстыдно, потому что мужчины желают видеть твое тело. Ты съеживаешься от страха, когда говоришь, потому что мужчины предпочитают, чтобы ты молчала. Ты угождаешь. Ты рисуешься. Ты наряжаешься и прихорашиваешься. Ты искажаешь свои мысли и уродуешь свое сердце. Ты ломаешь и переделываешь себя, режешь, и режешь, и режешь, и все ради того, чтобы говорить на языке завоевателя.
Кажется, никогда еще Эсменет не сидела столь неподвижно. Казалось, что воздух в ее легких и даже кровь в сердце застыли… Келлхус превратился в голос, доносящийся откуда-то из пространства между слезами и светом костра.
— Ты говоришь: «Пусть я буду стыдиться себя ради тебя. Пусть я буду страдать из-за тебя! Умоляю тебя!»
Эсменет осознала, к чему он ведет, и поэтому стала думать об отстраненных вещах — например, почему опаленная солнцем кожа и ткань кажутся такими чистыми…
Она поняла, что грязь нуждается в воде не меньше людей.
— И ты говоришь себе, — продолжал Келлхус: — «Вот пути, которыми я не буду следовать!» Возможно, ты отказываешься от извращений. Возможно, ты отказываешься целоваться. Ты притворяешься, будто испытываешь угрызения совести, будто проявляешь свои пристрастия, пусть даже мир вынуждает тебя идти по нетореному пути. Деньги! Деньги! Деньги за все и все за деньги! Хозяину дома. Чиновникам, которые приходят за взятками. Торговцам, которые кормят тебя. Бандитам с отбитыми костяшками. И втайне ты спрашиваешь себя: «Что может быть немыслимого, раз я уже проклята? Что за поступки за моей спиной, раз у меня нету достоинства? Что за любовь стоит за самопожертвованием?»
Лицо Эсменет было мокрым от слез. Когда она отвела руку от щеки, на ней остались черные следы пальцев.
— Ты говоришь на языке завоевателей, — прошептал Келлхус. — Ты сказала: «Мимара, детка, пойдем со мной».
Дрожь пробежала по телу Эсменет, словно она была кожей, натянутой на барабан…
— И ты отвела ее…
— Она умерла! — крикнула какая-то женщина. — Умерла!
— К работорговцам в порту…
— Перестань! — прошипела женщина. — Хватит, я сказала! Судорожно, словно от удара ножом.
— И продала ее.
Она помнила, как он обнимал ее. Помнила, как шла следом за ним в его шатер. Помнила, как лежала рядом с ним и плакала, плакала, а тем временем его голос смягчал ее боль, а Серве утирала слезы, и ее прохладная ладонь скользила по волосам Эсменет. Она помнила, как рассказывала им, что произошло. Про голодное лето, когда она отсасывала у мужчин задаром, ради их семени. О ненависти к маленькой девочке — к этой дрянной сучке! — которая ныла и канючила, канючила, и ела ее еду, и гнала ее на улицы, и все из-за любви! О безумии с пустыми глазами. Кто может понять, что такое умирать от голода? О работорговцах, об их кладовых, ломившихся от хлеба, когда все вокруг голодали. О том, как кричала Мимара, ее маленькая девочка. О монетах, которые жгли руки… Меньше недели! Их не хватило даже на неделю!
Она помнила свой пронзительный крик.
И помнила, как плакала — так, как не плакала никогда в жизни, — потому что она говорила, а он слышал ее. Она помнила, как плыла по волнам его уверенности, его поэзии, его богоподобного знания о том, что правильно, а что нет…
Его отпущения грехов.
— Ты прощена, Эсменет.
«Кто ты такой, чтобы прощать?»
— Мимара.
Когда Эсменет проснулась, ее голова лежала на руке Келлхуса. Она не испытывала ни малейшего замешательства, хотя должна была бы. Она знала, где находится, и хотя часть ее пришла в ужас, другая часть ликовала.
Она лежала рядом с Келлхусом.
«Я не совокуплялась с ним… Я только плакала».
Лицо ее было помятым после вчерашнего. Ночь выдалась жаркой, и они спали без одеял. Эсменет долго, как ей казалось, лежала неподвижно, просто наслаждаясь его близостью. Она положила руку на его обнаженную грудь. Грудь была теплой и гладкой. Эсменет чувствовала медленное биение его сердца. Пальцы ее дрожали, как будто она прикоснулась к наковальне, по которой бьет кузнец. Она подумала о его тяжести и вспыхнула…
— Келлхус… — произнесла она.
Она посмотрела на его профиль. Откуда-то она знала, что он проснулся.
Келлхус повернулся и взглянул на нее. Глаза его улыбались. Эсменет смущенно фыркнула и отвела взгляд.
— Как-то странно лежать так близко… верно? — спросил Келлхус.
— Да.
Эсменет улыбнулась в ответ, подняла глаза, потом снова отвела их.
— Очень странно.
Келлхус повернулся к ней лицом. Эсменет услышала, как Серве застонала и что-то жалобно пробормотала во сне.
— Tc-c-c, — с тихим смехом произнес Келлхус. — Она куда больше любит спать, чем я.
Эсменет посмотрела на него и рассмеялась, качая головой и лучась недоверчивым возбуждением.
— Это так странно! — прошептала она. Никогда еще ее глаза не сияли так ярко.
Эсменет нервно сжала колени. Он был слишком близко! Келлхус подался к ней, и губы ее тут же ослабели, а веки отяжелели.
— Нет! — выдохнула она. Келлхус дружески нахмурился.
— У меня набедренная повязка сбилась, — сказал он.
— А! — отозвалась Эсменет, и они снова рассмеялись. И снова она ощутила его тяжесть…
Он был мужчиной, который затмевал ее, как и подобает мужчине.
Потом его рука скользнула под ее хасу, очутилась меж бедер, и вот Эсменет уже застонала прямо в его сладкие губы. А когда он вошел в нее, пронзив, как Гвоздь Небесный пронзает небосвод, слезы хлынули из ее глаз, и в голове ее осталась лишь одна мысль: «Наконец-то! Наконец-то он взял меня!»
И это не было грезой. Это было на самом деле.