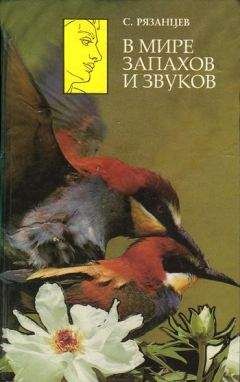Елена Грушковская - Великий Магистр
И на его борту был я, издыхающий, как недобитый пёс, на чёрствой лепёшке матраса. Всё началось с того, когда та хищница в хранилище схватилась окровавленной рукой за моё раненное плечо. Случайно она это сделала или намеренно? Теперь это неважно. Я уже два дня был в госпитале со своим ранением, когда почувствовал странное недомогание. Я сказал об этом врачу, и у меня взяли кровь и мочу на анализ — как обычно.
Это было последнее, что происходило в моей жизни в обычном порядке.
После этих анализов я попал из палаты в камеру — не долеченный, слабый, с нарастающим недомоганием. Никто даже не потрудился объяснить мне, в чём дело.
Мне думалось, что в камере со мной забавлялась смерть, меняя обличья: сначала она, в красно-рыжем наряде и огненном гриме, прижигала моё нутро раскалёнными добела пальцами, потом, обернувшись Снежной Королевой, пронизывала меня ледяными иглами и одним дуновением превращала мой пот в иней. Так она играла со мной и издевалась, но не брала окончательно, лишь доводя до грани, до тонкой кромки, за которой раскинулось её царство. Чёрным скользким угрём она обвивалась вокруг меня, щекоча подреберье тошнотой, вгрызалась в пупок и выедала кишки, потом тучей мелкой мошкары пробиралась в лёгкие и пожирала их, но всякий раз оставляла меня живым, держа на тонкой нитке над пропастью.
Видно, взять меня к себе не входило в её планы, потому что, несмотря на все муки, я всё-таки чувствовал под собой матрас, а временами видел окно с расплывающимися прутьями решётки. Оно покачивалось надо мной, как пятно солнечного света на поверхности воды, а я лежал на дне. Временами тяжёлая дверь открывалась, и вплывали какие-то фигуры, толпились вокруг меня и бормотали, бормотали булькающими голосами. Я ненавидел их за это бульканье и однажды попытался ударить, но на меня акулой налетела фигура в форме и двинула прикладом автомата между глаз. Я перестал видеть окно.
Когда я снова его увидел, смерть со всем её маскарадом была уже далеко, и вода из камеры ушла. Окно висело неподвижно, чёткое и холодно-серое, с безжалостно пересекавшими его прутьями, а под ним, озарённая его мертвенным светом, стояла она — девчонка с молниями в глазах. Та, что ступала пыльными босоножками по траве, когда я с пацанами гонял мяч во дворе. Из чёрного репродуктора — радиопозывные «Широка страна моя родная» и голос: «Внимание, говорит Москва!..и гражданки Советского Союза… сегодня, двадцать второго июня, в четыре часа утра, без всякого объявления войны… напали на нашу страну… границы во многих местах… бомбардировке города… Великая Отечественная война… против немецко-фашистских захватчиков…»
И мы застыли: я с мячом, а она — с мороженым.
«Наше дело правое. Победа будет за нами!» — сказал Левитан. Её рука сжала мою.
Так вот когда это было. Моя прошлая жизнь, что ли?
Видение, блеснув напоследок голубыми молниями глаз, исчезло: его прогнало громыхание открывающегося окошечка в двери.
— На, пей, кровосос!
Мои дрожащие руки еле сумели схватить алюминиевую миску, в которой колыхалось то, что мне было нужно. Граммов триста… Мало, впроголодь, но всё же лучше, чем страшная пустота внутри. Я приник к краю миски ртом. Клыки стукнули о металл.
Вы когда-нибудь пили на голодный желудок и без закуски? Примерно так и «пошла» в меня эта кровь. Хмель мягко качнул камеру и превратил койку в колыбель.
15.2. Три секундыКомната с серыми стенами, стул посередине, а на стуле — я. Руки были скованы за спиной, а предплечье ещё зудело от укола. Запах спирта преследовал меня и вызывал головокружение.
— Итак, значит, ваш ответ — нет? — сказал голос из динамика под потолком.
Я отрицательно мотнул головой.
— Голосом, голосом отвечайте! — резко и раздражённо каркнул динамик.
— Уверен, вы меня и так видите, — сказал я. То и дело комната начинала плыть, и только встряхивание головой немного помогало не уплывать вместе с ней.
— Дудник, вы понимаете, что это нарушение присяги?
— Я теперь всё равно подлежу уничтожению. Что мне терять? — Во рту пересохло, в груди чувствовалось жжение. От укола, конечно, от чего же ещё? Точно рассчитанная доза — чтобы я не дёргался, но мог говорить.
— Если вы будете сотрудничать, к вам отнесутся, как к человеку. Происшествие, конечно, беспрецедентное, но в случае добросовестного продолжения вами службы для вас может быть сделано исключение.
— Почему беспрецедентное? А Дэн? Он ведь тоже обратился, так? — Я напряг мускулы и попытался разорвать наручники. Интересно, у меня хватит сил?
Нет… Не получилось.
— Так что насчёт Дэна? Его вы тоже заставили… сотрудничать? Или уничтожили?
— Сейчас речь не о нём, а о вас. Вы всё ещё состоите на службе и обязаны выполнять приказы командования. Впрочем, кажется, бесполезно взывать к вашему чувству долга. — Голос в динамике прозвучал досадливо и презрительно. — Таким своим поведением вы только доказываете, что не достойны человеческого к себе отношения. Вы превратились в хищника.
— А кто вам сказал, что у них нет понятия долга и чести? — Во рту было так сухо и вязко, будто я наелся недозрелой хурмы. Язык стал шершавым и еле ворочался. — Кто вам сказал, что они не могут любить, прощать, жертвовать собой ради близких?
— Дудник, мы говорим не о них, а о ВАС! Вы намерены доказать, что имеете право считаться человеком, несмотря на произошедшее с вами изменение?
— Похоже, с вами тоже бесполезно говорить о чём бы то ни было, — сказал я. — Вы так ни хрена и не поняли.
А вот теперь у меня получилось: вделанная в пол цепь наручников лопнула, стул полетел в динамик. Зачем? Да достали они меня…
Свободой я наслаждался только три секунды: влетевшая в комнату охрана повалила меня на пол, и в плечо мне вонзилась игла.
15.3. Мама— Никита… Сыночек…
Очнулся я в светлой и уютной палате, больше похожей на гостиничный номер класса «люкс». Обои приятного бежевого цвета, в стенах — декоративные ниши с подсветкой, гардины — из тюля и какой-то узорчатой шелковистой ткани, горшки с цветами, а кровать — с мягким изголовьем, похожим на спинку дивана. Ковёр, на тумбочке — лампа с причудливым полупрозрачным абажуром, картины, люстра… И среди этой незнакомой роскоши — мамины седые волосы и большие серые глаза. И прижатый к щеке скомканный, пропитанный слезами платочек.
— Ма…? — только и смог я выговорить.
Первым моим порывом было обнять её, но я не смог шевельнуться. Её ладонь погладила мой лоб и примяла ёжик на голове. Она пыталась улыбаться, а губы дрожали.
— Главное — живой… Всё будет хорошо, мой родной, ты поправишься, — сказала она.