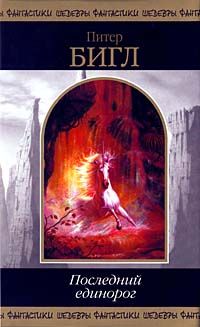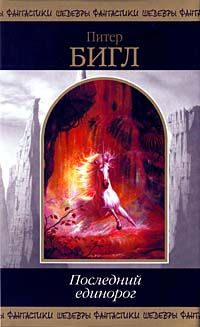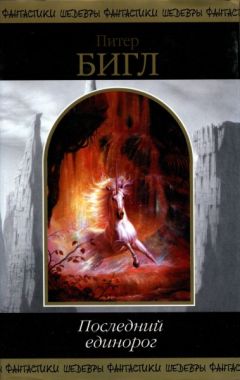Питер Бигл - Последний единорог
— Полагаю, вы не целый день наблюдали с нею за единорогами? — щелкнув клювом, прервала его жена. — Понятно, ей не привыкать по части оправданий. — Взъерошив перья, она надвигалась на него.
— Дорогая, я даже не видел ее, — пискнул муж, и хотя жена знала, что он в самом деле не видел и не осмелился бы увидеть, она все же влепила ему разок. Уж она-то знала толк в вопросах морали.
Единорог и волшебник шли вверх по мягкой весенней Кошачьей горе, потом вниз в долину, в которой росли яблони. За долиной высились невысокие горы, толстые и ручные, как овцы, удивленно нагнувшие свои головы, чтобы обнюхать проходящего единорога. Их сменили летние вершины и прожаренные равнины, над которыми воздух дрожал, как над сковородкой. Вместе они перебирались через реки, карабкались вверх или вниз по поросшим куманикой берегам и обрывам, странствовали в лесах, напоминавших ей собственный, хотя быть похожими они не могли, ведь они знали время. «И мой лес теперь тоже его знает», — думала Она, но говорила себе, что это ничего не значит и все будет по-прежнему, когда она вернется.
Ночью, когда Шмендрик спал сном стершего ноги голодного волшебника, Она, не смыкая глаз, припадала к земле и ждала, что громадный силуэт Красного Быка вот-вот бросится на нее с луны. Иногда она была уверена в этом, до нее доносился его запах — темный лукавый смрад, сочащийся в ночи. Вскрикнув, с холодной готовностью Она вскакивала на ноги, но всякий раз обнаруживала лишь двух-трех оленей, глазеющих на нее с почтительного расстояния. Олени любят единорогов и завидуют им. Однажды вытолкнутый хихикающими друзьями двухлетний бычок подошел к ней совсем близко и, пряча глаза, пробормотал:
— Вы прекрасны. Вы так прекрасны, как рассказывала мне мать.
Молча Она посмотрела на него, зная, что он и не ждет ответа. Остальные олени фыркали, давились смехом и шептали:
— Давай дальше, дальше.
Тогда олень поднял голову и быстро и радостно воскликнул:
— А я все же знаю кое-кого прекраснее вас. — Он повернулся и в лунном свете побежал прочь, его друзья последовали за ним. Она снова легла.
Время от времени они заходили в деревни, Шмендрик объявлял, что он бродячий волшебник, и просил на улицах разрешения «песнями оплатить ужин, чуточку вас потревожить, слегка помешать спать и проследовать дальше». Почти в каждом городке ему предлагали ночлег и стойло для прекрасной белой кобылы. Пока детей не отправляли спать, он при свете фонаря давал представления на рыночных площадях. Не пытаясь сделать что-то значительное, он заставлял кукол говорить, превращал мыло в конфеты, но даже такие пустяки подчас не удавались ему. Однако детям представления нравились, их родители не скупились на ужин, а летние вечера были мягки и приятны. Спустя века Она все еще вспоминала странный шоколадный запах стойла и тень Шмендрика, пляшущую на стенах, дверях и трубах.
По утрам они продолжали путь, карманы Шмендрика раздувались от хлеба, сыра и апельсинов, и Она выступала рядом с ним — белая, как барашки на волнах в лучах солнца; зеленая, как сами волны в тени деревьев. Люди забывали его фокусы раньше, чем он исчезал из вида, но его белая кобыла тревожила по ночам многих селян, и не одна женщина пробуждалась в слезах, увидев ее во сне.
Однажды вечером они остановились в сытом благополучном городке, где даже у нищих были двойные подбородки, и мыши не бегали, а ходили вперевалку. Шмендрика тут же попросили отобедать с мэром и наиболее округлыми членами магистрата, а ее, как всегда неузнанную, отпустили на пастбище, где трава была подобна сладкому молоку. Обед был сервирован на открытом воздухе, на площади — вечер был теплый и мэр хотел покрасоваться перед гостем. Это был превосходный обед.
За едой Шмендрик рассказывал истории из своей жизни бродячего чародея, наполняя их королями и драконами и благородными дамами. Он не лгал, а просто излагал события наиболее выгодным для себя образом, и рассказы его казались правдоподобными даже благоразумным членам магистрата. И не только они, но все на площади потянулись к рассказчику, чтобы понять природу заклинания, открывающего любые замки, если его произнести должным образом. И все они, затаив дыхание, рассматривали отметины на пальцах волшебника.
— Память о встрече с гарпией, — спокойно объяснял Шмендрик. — Они кусаются.
— И вы никогда не боялись? — робко удивилась молоденькая девушка. Мэр шикнул, но Шмендрик раскурил сигару и улыбнулся ей.
— Голод и страх сохранили мне молодость, — ответил он. Члены магистрата дремали и переговаривались за столом; искоса глянув на них, волшебник подмигнул девушке. Мэр не обиделся.
— Это верно, — вздохнул он, сложив переплетенные пальцы над местом, где теперь находился его обед. — Мы здесь хорошо живем; если это не так, я ничего не понимаю в жизни. Иногда я думаю, что самая малая капля страха, голода нам бы не повредила — так сказать, обострила бы наши чувства. Вот почему мы всегда приветствуем странников, у которых есть новые истории и песни. Они расширяют наш кругозор… заставляют нас заглянуть внутрь… — Он зевнул и, постанывая, потянулся.
Один из членов магистрата неожиданно воскликнул:
— Боже, взгляните на пастбище! Тяжелые головы повернулись на нетвердых шеях, и все увидели, что деревенские коровы, лошади и овцы сгрудились на дальнем конце поля и не отрывали глаз от белой кобылы волшебника, пасшейся на прохладной траве. Все животные молчали. Даже свиньи и гуси были безмолвны как тени. Где-то вдалеке крикнул ворон, словно угольком перечеркнув закат.
— Необыкновенная, — пробормотал мэр. — Совершенно необыкновенная…
— Да, в самом деле, — согласился волшебник. — Если бы вы знали, что мне предлагали за нее…
— Любопытно, — сказал начавший разговор советник, — они ведь не кажутся испуганными. Словно благоговеют, как бы поклоняются ей.
— Они видят то, что вы разучились видеть. — Шмендрик уже достаточно подвыпил, а молоденькая девушка смотрела на него глазами и более ласковыми и менее глубокими, чем глаза единорога. Он стукнул стаканом по столу и сказал улыбающемуся мэру: — Она более редкостное создание, чем вы осмеливаетесь думать. Она — это миф, память, нечто не-у-ло-… неуло-вимое. Если бы вы помнили, если бы вы голодали…
Голос его потонул в топоте копыт и детском вопле. С гиканьем и свистом дюжина одетых в лохмотья всадников ворвалась на площадь, разбрасывая горожан, будто мраморные шарики. Они объезжали площадь, сбивая все, что попадалось на их пути, нечленораздельно похваляясь и неизвестно кого вызывая на битву. Один из них привстал в седле, согнул лук и стрелой сбил флюгер со шпиля церкви, другой схватил шляпу Шмендрика, нахлобучил себе на голову и с громким хохотом помчался по площади. Некоторые подхватывали на седло визжащих детей, некоторые довольствовались провизией и бурдюками с вином. Дико сверкали глаза на небритых лицах, барабанным боем звучал смех.