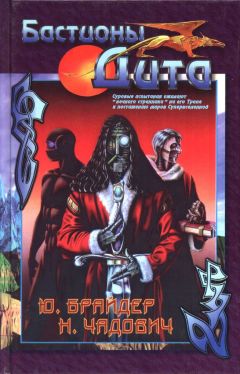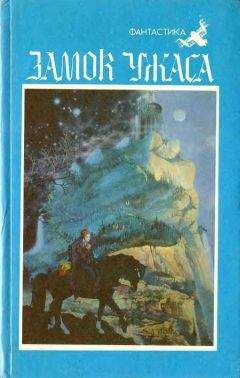Александр Зорич - Карл, герцог
«Пустое», – поспешила сломать восторг Маргарита.
Она, похоже, всерьез настаивала на том, что это «пустяк», хотя и дрожащим голосом. Она с подозрением изучала нимб, расцвеченный свечным пламенем, на взъерошенном затылке Карла, хотя и снисходила до его увлеченности вторым туром гемоанализа. Обыкновенная мужская расслабуха и познавательная апатия – все могли видеть – испарились, а шалый азарт лаборанта-интерна выпадал на постель белым, творожистым осадком. Тогда Карл, охомутанный музой естествоиспытания, упустил момент спросить без околичностей. А позже – позже они редко отдавались доверительным беседам наподобие тех, какие ведут кудрявые блондиночки со своими более опытными, порядком потасканными подругами и понимающими мамашами в рекламах гигиенических пакетов. Вот почему он так и не узнал доподлинно, к чему отсылало это ритулино «Пустое». Намекало ли оно на некую йоркскую приверженность анальным утехам? Или, наоборот, Маргарита хотела подчеркнуть, что девственность, как и трезвость – норма жизни в туманном Альбионе, причем эти две нормали образуют в проекции на поверхность некий загон, или же крааль, в котором безгрешно топчутся абсолютно все английские девушки – её круга, разумеется.
– У тебя, мне видно, бывать много женщин! – заключила тогда Маргарита, натягивая на нос простыню с видом на Карла, античного и обнаженного.
– И по чём это видно, что у меня было много женщин? – мягко и похотливо улыбаясь, поинтересовался Карл и оглядел себя от ключиц до колен.
– Я смотрю, а ты не стесняешься, – объяснила Маргарита, гордая своей проницательностью.
В общем, с воспитанием обошлось.
3
Она была женщиной, он – мужчиной. Вот как выглядит пропасть, которая разделяет людей. Виновато в этом косноязычие проводящей среды, того самого бодрящего горного воздуха, заполняющего бездонное ущелье между инем и янем. Этот ядреный эфир просто не в состоянии перенести, транслировать, передать, не отщипнув себе с краешка убогие объяснения мужчин и женщин, самые любые, самые важные и красноречивые. Наверное, потому не в состоянии, что сам этот эфир втайне, хотя и с высокой санкции, болеет за торжество разнополого секса над однополым и боится, что если женщины начнут внятно объяснять мужчинам всякие нюансы своего внутреннего и внешнего устройства, а мужчины то же самое, и что если вдруг те и другие останутся верно понятыми, то случится катастрофа. Фейерверки страстей, особый интерес на пустом месте, сцены с битьем посуды и окровавленными мачете, молитвы её/его освещённым окнам, сакрализация почтальонов с целованием разящих свинцом телеграмм и иконостасы малохудожественных, но дорогих фотографий, а ещё танцы, изящные искусства, парки с беседками – всё это прекратится. А когда прекратится, наступит тут же, ибо свято место не терпит продолжительного интеррекса, наступит эра всеобщего, взаимного агапе, этакий платонический век, в который всё равно что – любить или вместе сеять брокколи.
4
– Здесь впору разбить сад, копию Гефсиманского, – Карл галантно подал Маргарите руку, чтобы помочь ей, проглотившей порядочного колобка, перевалить через канаву. Наверное, скоро рожать.
– Здесь?
– Да, это место называется холмом Святого Бенигния, – монотонно и дружелюбно, словно бывалый гид, пояснил Карл, ожидая, что следующим вопросом жены будет «А почему Гефсиманский?». Ан нет.
– Так это здесь фарисеи замучили преподобного Бенигния?
– Не знаю. Но здесь погиб… ну, умер… – язык Карла споткнулся о сгусток свернувшегося времени, – …один молодой человек.
– Твой родственник?
– Нет. Ну то есть может быть. Дальний.
– Сильно молодой?
– Ну там пятнадцать-шестнадцать. Точно не помню. Сейчас ему было бы уже… допустим, тридцать два.
Карл аж взмок. Он ненавидел считать. Просто, безо всяких там литот, ненавидел. Да ещё при таком, бьющем в рожу, встречном ветре из Леты.
– Ты с ним, наверное, дружили, – Рита по своему обыкновению рассеяно слажала в области «ты» и «Вы». Простительно. Может, не на словах, а на деле, в этой области профанируют просто все.
– Нет, мы не дружили. Я был старше на три года, а в том возрасте это, знаешь, очень чувствуется.
– Чувствуется, – откликнулась Рита. – Представляешь, когда я родилась, ты уже умел читать. Так значит тебе его жалко?
– Мне? Мне – очень. А тебе?
– Мне тоже. Хотя я не знаю даже как его звали.
«Интересный вид жалости, жалость номенклатора», – буркнул в Карле практикующий святоша. Правда, он и сам не смог пожалеть безвестного глухонемого, мычавшего что-то важное вослед его лошади и судорожно хватавшего воздух ртом, когда кто-то из Карловой солдатни стрельнул в него потехи ради из арбалета. Не смог, поскольку, как оправдывал себя вечером того же дня, даже не знал, как его зовут.
– Его звали Мартин.
– А я, правдиво говоря, думала, что его звали Луи.
– А, Луи… Нет, Луи-то как раз был другом. Кстати, на этом самом месте я прочел ему смертный приговор, – сардонически прищурившись, Карл указал на едва заметный бугорок, этакую кротовину – раньше там была яма, вкруг которой справляли свой неопознанный Жануарием инфернальный культ двое каких-то недоделанных. Карл повесил их на следующий день после казни Луи. Наверное, чтобы на их фоне грехи Луи было легче подвести под амнистию.
– А Луи был другом этому Мартину?
Неожиданно.
– Пожалуй, нет.
Вначале Карл хотел поделиться с Маргаритой кое-какими черствыми сластями из своего запаса. Затем – уже не хотел, но и не желал показаться трусом. Затем он уже хотел как-нибудь втихаря свернуть свою скатерть-самобранку, или самозванку, как посмотреть. И поболтать… ну о чём? о чём, о чём! – о красотах родного края, например. Но о красотах почему-то не складывалось.
– Когда-то тут был несчастный случай и Мартин как бы погиб. Я так, по крайней мере, думал. Но вот Луи, тот, которого ты только что вспомнила, он клялся, что видел его живым в позапрошлом году. Говорил, будто теперь он живет в замке Орв под Азенкуром.
– Постой, он живет… это Луи живет?
– Нет, под Азенкуром живет Мартин. В том-то и дело, что я был в церкви, когда отпевали, я лично заказывал панихиду и как сейчас помню восковую кожу, желтые губы, сладкую тошнотворность воздуха. Помню, говорили что-то «о иже во аде горящих». И его чистые льняные волосы солярным веером по подушке я тоже помню.
– А что волосы? Не замечаю, чтобы с ними что-то делалось из-за смерти.
– Если бы Луи просто так говорил, что видел живого Мартина, я бы ему сказал: «Попустись, дружок». То есть сказал бы: «Луи, тебе померещилось». Мало ли похожих людей на свете! («Вообще-то мало», – вставил внутренний комментатор Карла). Но он не просто сказал, он принес прядь его волос.