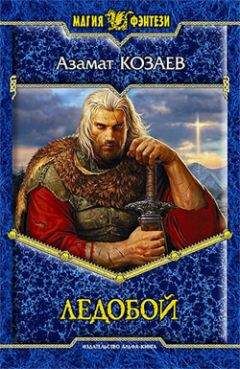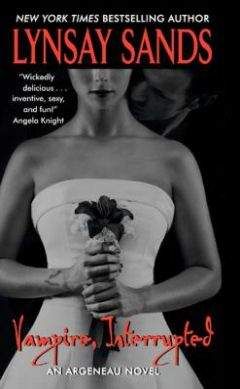Азамат Козаев - Ледобой. Круг
Наземь повалились оба, и поляна замерла. Верна будто раздвоилась, хотелось убежать вперед, опуститься около одного и убедиться в гибели другого, но нечеловеческим усилием осталась на месте. Семеро даже не сглотнули. Как будто не сражались бок о бок долгие месяцы. Только губы поджали.
Мешанина из человеческих тел дрогнула, ожила, и поединщики с трудом встали. Сивый не удержался, рухнул, встал еще раз, рухнул и наконец поднялся. Его качало, даже отсюда видела, как потемнела рубаха, и не только от пота. Балестр стоял не в пример тверже, но одна рука висела плетью, второй он прикрывал лицо и озирался по сторонам, точно враз потерял слух и зрение.
– Приведи, – бросила Верна Окуню, а Безроду крикнула: – Сегодня тебе повезло! Завтра все будет иначе! Встанешь еще раз!
По губам угадала ответ: «Мне не привыкать».
– Я еще увижу тебя?
Еле заметно кивнул. Сделал шажок, отдохнул, сделал другой, отдохнул. Ноги волочил, ровно столетний дед, был бы в силах – привязал на колени досочки, чтобы не тряслись. Подошел к мечу, тому из двух, что остался цел, опустился на колени, сунул руку в ременную петельку. Опираясь на клинок, встал. Добрел до ножен, уцепил перевязь и побрел восвояси.
Балестр, в кругу семерых соратников и Верны, слепо таращился по сторонам, крутил головой на малейший шорох и кривил то, что раньше было губами. Папкина дочка в ужасе забыла отвести глаза, таращилась, будто завороженная, и кусала кулак, чтобы не закричать. Лицо телохранителя обезобразили жуткие язвы, будто неведомое заговоренное зелье, к тому же разогретое на огне до кипения, съело кожу. Безродова пятерня словно выжгла мясо до кости; на месте глаз чернели провалы; под челюстью, там, где большой палец терзал шею, наружу вылезли лохматые, обугленные сухожилия. Губ и подбородка почти не осталось, только зубы, как частокол, сидели в остатках десен. Нижняя челюсть, сломанная как раз под губой, бессильно отвалилась, и с белой кости оплывала плоть вся в ошметках бороды. С отвратительным треском лопнул один из зубов, посерел и осыпался грязноватой пылью. И не кровью – чем-то более темным сочились раны, будто в кровь намешали пепла и золы. Не в силах закрыть глаза и бессильная принудить себя отвернуться, видела, как в труху осыпались передние зубы, из глазниц потекла кроваво-грязная жижа, и только нос остался цел, прямой, ровный и какой-то нелепый.
– Кончайте, – прошептала и отвернулась. Нутро, сегодня до предела взболтанное, полезло наружу, тошнота подступила к горлу, и Верна рухнула на колени.
Кто-то из парней обнажил меч – клинок покинул ножны в мгновение ока, – и будто сами по себе упали наземь сначала голова, потом тело. Не глядела на жуткое зрелище, собой занималась; была почти уверена, что в исторгнутой желчи наверняка окажется душа, покинувшая неуютное, небабье тело.
Сивый ковылял потихоньку, еле-еле. Усилием воли держал в кулаке сознание, не давал ускакать, точно ветреной лошади. Страх припозднился, лишь теперь взял свое. Почти ничего не запомнил, лишь сумасшедшая быстрота обоих мертвенно холодила в груди и блистающая круговерть мечей стояла перед глазами. Впору звать Тычка, раскрывать рот пошире и длинной удочкой с крючком тащить из пяток сердце. Давно не чувствовал себя настолько беспомощным. Ровно отрок с хворостиной перед вооруженным бойцом. Бились крохи времени, но сил отдал на год вперед.
– Шаг, еще шаг, – хоть и трудно давалась ходьба, и сознание чуть не потерял, задрал голову в небеса и усмехнулся.
Будто парит в воздусях Гарькина бесплотная душа и улыбается. Отомщена. Забыл все, чему учили воеводы, растерял все приемы и ухватки, а как первого срубил – дайте боги памяти. Что делал? Как? Ровно сунули в горло поддувало, в груди очаг развели и ну давай жар нагнетать! Выжгло тем жаром недавний бой к такой-то матери, только след остался, как от клейма, и дымок идет. Остыл после схватки быстро, и теперь в грудь пробрался холодок, страх заколотил. Все правильно – уходит лето, приходит зима.
Никогда с такими не встречался. Быстры, как стрелы, могучи, как медведи. Словно перешли тот невидимый предел, о который плещутся человеческие силы да перехлестнуть не могут. Эти смогли, уж какой ценой – только спрашивай. Одна беда – не до разговоров было на поляне. Едва рассек первого, клинок чуть не вырвало из руки. Меч будто обрел собственную жизнь, затрепетал, забился; ровно сидел в теле неистовый бесплотный дух и полез наружу через рану, задергал клинок.
Пошел в обход села, по взгорку – ни к чему будоражить соседей, – прячась в деревьях. Несколько раз едва не упал, на стволах отвиселся. На раны смотреть не стал, жив, и ладно. Только что-то странное делается – будто сквозняк через дыры поддувает.
Кое-как обошел Понизинку, спустился к избе. Серогривок было подскочил, повел носом, заскулил, затеребил хвостом. Безрод усмехнулся. Странный десяток.
– Пришел уже? А я тут кашку сварил… – Тычок с горшком в руках вышел из дому и оторопел.
– Полотно и воду, – из последних сил доковылял и рухнул на новенькую завалинку.
Неопределимых годов мужичок нырнул в дом – что-то загремело, покатилось – и через какое-то время выскочил во двор, и за ним, как веночные ленты, стлались по ветру льняные полосы.
– Ах, чтоб тебя… – забрал меч и ножны, совлек с Безрода рубаху и сотворил обережное знамение. – Броня уберегла бы!
Сивый покачал головой. Будто подсказало что-то: «Не надевай броню, оставайся подвижен». Как в воду глядел.
– Что там?
Старик испуганно покосился. Неужели сам не чувствует? Да когда такое было? Что происходит, в конце концов?
– Рассечения на боку, на груди. Серьезная дыра в плече. Порез на ладони.
– Сам порезался. – Безрод поморщился. – Ломал человека, а сломался меч.
– Уймись. – Тычок промывал раны. – Извертелся весь. Ровно дите на торгу!
– Как закончишь, укрой потеплее, мерзну.
– Стало быть, порешил?
– Да, – говорил из последних сил. Вот-вот убежит сознание. – Гарька будет спокойна.
Неопределимых годов мужичок хотел было еще спросить, но Безрод сполз по стене и без памяти растянулся на завалинке.
Очнулся на закате обессиленный, замерзший. Будто зима наступила раньше урочного, и укрыт не теплым одеялом из овечьих шкур, а толщей лежалого снега. И снился холод во всяком виде: ел ягоды во льду у Вишени; мальчишкой носился босиком по первому снегу на Чернолесской заставе; плыл в старое святилище, разрезанной ноги вовсе не чувствовал и превозмогал стужу, стиснув зубы.
– Встал, Безродушка, а я тебе кашку разогрел! – Старик прятал глаза, возил по земле, но голос дрожал и выдавал Тычков ужас.
– Что не так? – поморщился, потянулся боком.