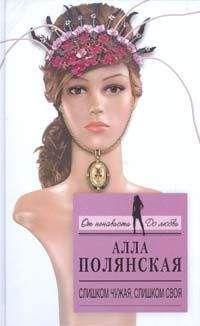Юлия Остапенко - Легенда о Людовике
Топот ног за дверью прервал путавшиеся мысли Сен-Жара. В комнату ворвались те, кто только что ее покинул: впереди прочих бежал человек одного возраста с Адемаром, невысокий, чернявый, с носом урожденного шампанца и глазами волчицы, услышавшей крики своих волчат. Этого человека Адемар узнал: то был Жан Жуанвиль, которого Робер Артуа частенько осыпал за глаза насмешками и бранью в застольном веселье. Увидав короля, Жуанвиль застыл как вкопанный, и все остальные (среди них был и третий брат короля, Карл Анжуйский — его Адемар тоже узнал) встали вместе с ним.
Король поднялся с кресла, шатаясь, как пьяный. И протянул руки вперед, отчаянным, почти картинным жестом, исполненным такого великого горя, что оно казалось едва не наигранным.
— Жуанвиль! — закричал король тонким, пронзительным голосом, ломая руки, как женщина. — Я потерял! Я потерял ее, я потерял мою матушку!
И он заплакал, громким, детским, истерическим плачем, который было дико видеть у могучего и бесстрашного воина, сильного правителя и короля, которого пока еще тихо, вполголоса, но уже довольно часто звали Святым. Адемар де Сен-Жар глядел на мужчину, кричавшего и причитавшего, как слезливая баба, и хлопал ртом и глазами, таращась на него изо всех сил.
Слегонца… они говорят — слегонца не в себе? Да ничегошеньки не слегонца!
Король продолжал рыдать, а дюжина рыцарей, среди которых был его брат, его друзья, его подданные и совершенно чужой ему человек, стояли и смотрели на это, чувствуя страх, стыд и неловкость, превышающие сострадание, которое, бесспорно, также должно было тронуть их сердца. Карл Анжуйский, бросив взгляд на Адемара, осторожно подступил ближе и протянул руку. Адемар отдал ему письмо, и Карл, быстро пробежав послание глазами, побледнел почти так же сильно, как Людовик. Однако рыдать и ломать рук он не стал, а лишь смял пергамент в кулаке. И тогда Адемар понял, что король Людовик угадал — что король Людовик знал, быть может, прежде, чем Адемар вошел во дворец, прежде, чем он сошел с корабля, или даже прежде, чем сел на него на Кипре.
Адемар де Сен-Жар привез в Акру известие о смерти Бланки Кастильской, умершей во Франции почти полгода назад.
— Сир, — Жан Жуанвиль подошел к столу и остановился перед королем, который согнулся над своей Библией и сотрясался от рыданий, низко склонив голову и обхватив ее обеими руками. — Сир! Взгляните на меня. Молю вас.
Людовик поднял на него мутные от слез глаза. Жуанвиль твердо глядел ему в лицо.
— Сенешаль, я потерял мою матушку, — повторил король, как будто в бреду, и Жуанвиль ответил:
— Знаю. Но не это удивляет меня, ибо она была уже не молода, и ей, как всем нам, суждено было умереть. Но меня удивляете вы — вы, мудрый человек, выказываете столь великую скорбь, доставляя радость вашим врагам и печаля ваших друзей. Не таким вас любила видеть королева Бланка.
Слова эти свершили чудо. Если и был тут святой, способный творить дива, то, по убеждению Адемара Сен-Жара, это был именно Жан Жуанвиль, тот самый Жан Жуанвиль, которого так недолюбливал господин Робер. Ибо тихая и суровая эта отповедь подействовала на короля как ушат холодной воды. Рыдания его мгновенно прекратились. Он выпрямился, отняв руки от головы. Лицо его стало спокойно, лишь удивление сонного человека, разбуженного вдруг и понявшего, что он в незнакомом месте, отразилось на этом лице. Слезы его высохли, и лишь грязные разводы от них остались на его впалых щеках. Он взглянул на своих приближенных, молча стоящих подле него. Затем посмотрел на письмо одного своего брата, которое держал в опущенной руке другой. И провел ладонью по лицу, словно сгоняя затянувшийся сон.
— Адемар де Сен-Жар, — сказал король, не поворачивая головы, и голос его звучал глухо, как из могилы. — Скорбную весть принесли вы нам. Но и в скорби есть величие. Я знал то, что вы сказали мне, сердцем моим, вот уже несколько месяцев; благодарю, что вы сообщили это и моему разуму. Как могу вознаградить вас за службу?
Адемар, уже решивший, что этот безумный король немедля велит обезглавить его как гонца, принесшего дурную весть, растерялся от такой доброты. Но через миг, к счастию своему, вспомнил, что была одна вещь, о которой он если и мог просить кого-либо в христианском мире, то одного только короля Франции.
— Сир! Ваш брат граф Артуа, господин Робер, взял с меня клятву оставаться в Палестине… Христом Богом вас заклинаю, снимите вы уже с меня эту клятву! Я и так и этак старался, сколько лет уже, а сил моих больше нет! Домой хочу! — взвыл Адемар и повалился перед королем ниц.
Людовик посмотрел на него. Все присутствующие продолжали молчать, и, не получив больше ни одного слова от Адемара, умоляюще стискивавшего руки перед грудью, король обвел медленным взглядом своих придворных, задержался на брате, чуть дольше — на Жуанвиле, который отвел глаза. И этот его жест как будто устыдил самого короля. Он вздохнул и опустил руку Адемару на темя. Ладонь его была холодной.
— Адемар де Сен-Жар, — сказал король Людовик. — Освобождаю тебя от данной тобою клятвы. Ты можешь считаться свободным. И все, — он поднял глаза и, повысив голос, обращался теперь к всякому, кто мог его слышать, — все, кто принесли клятву мне и моим вассалам оставаться в святой земле до победы или до смерти, — все отныне свободны, слышите? Передайте каждому. Мать моя мертва, — добавил он, словно отвечая на всеобщее немое изумление. — Франция осталась без регента. Пора мне вспомнить о том долге, которым не сам я пожелал себя облечь, но который возложил на меня Господь. Мы возвращаемся во Францию, господа. Возвращаемся все.
И все разошлись выполнять приказ короля.
Адемар, воспользовавшись правами гонца, остался в королевском дворце отдохнуть, выспаться и наесться, прежде чем пуститься — к великой своей радости — в обратный путь. Будь он немного смекалистей, ему, бесспорно, не удалось бы скоро уснуть в эту ночь: он бы ворочался, вспоминая страшный крик короля, и терзался бы вопросом, отчего Альфонс Пуату отправил именно его, неуклюжего деревенщину Адемара Сен-Жара, донести своему брату весть, которая, как Альфонс Пуату не мог не понимать, раздавила бы короля. И будь Адемар хоть немногим более проницателен, он, может быть, догадался бы, что граф Пуату нарочно послал к Людовику с этой вестью чужого человека, предвидя скорбь короля и надеясь, что присутствие постороннего хоть немного сдержит эту скорбь, хоть немного сгладит. Ибо негоже королю и святому показывать всю глубину своей человеческой слабости. И будь Адемар хоть немного более чуток, он понял бы, как мало было в этом святом короле от святого и короля и как много — от человека.