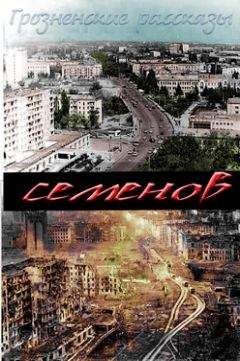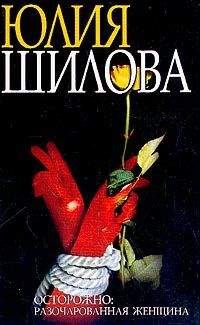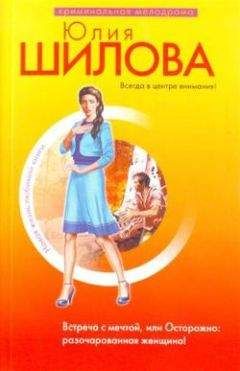Ольга Денисова - Вечный колокол
— Нет, раз не спишь — я не отстану. Запала не чувствую.
— Какого запала? Ты чего? — Волот сел на постели, — люди же умирать пойдут, а я…
— Ты послушай меня, старого… — дядька подошел к нему поближе и сел рядом, — я вот тебе расскажу, что твой отец перед боем делал.
Волот любил дядьку. Наверное, очень любил, что не мешало ему пренебрегать мнением старого вояки и относиться к нему чуть-чуть свысока.
— Ну, расскажи, — Волот зевнул, хотя на самом деле очень хотел услышать рассказ об отце.
— Твой отец перед боем поначалу был похож на волка, которого заперли в клетке. Ходил из угла в угол, рычал на всех, гнал взашей. Сначала мы считали — это он думу думает, как лучше сделать. А только потом догадались — это он волнуется. Он всегда перед боем волновался. А потом, как пора было доспехи надевать, его волнение словно обрубал кто, как топором. Он совершенно спокойным делался, по-настоящему спокойным, не притворялся. И не спешил никуда, с расстановкой говорил, не суетился. А потом, когда на коня садился, когда перед войском появлялся, у него в глазах загорался огонь. Вот веришь — настоящий огонь! Это я не для красного словца. Смотришь ему в глаза и видишь: глубоко так, далеко, но чувствуешь, как ревет пламя, мечется, и страшно делается от его взгляда. Дыхание обрывается. Ему и говорить ничего не надо было: окинет войско этим огненным взглядом, махнет рукой, и все, как один, готовы за него умереть! В бой за ним шли очертя голову.
Волот вздохнул: у него так не получится.
— Чего вздыхаешь? — дядька толкнул его локтем в бок, — сидишь, нюни распустил! Ты давай, волнуйся! Ходи туда-сюда! Гони меня к лешему! Князь называется!
Волот едва не рассмеялся — предложение дядьки показалось ему забавной игрой: неуместной, глумливой какой-то, но веселой игрой. И он на самом деле погнал дядьку взашей, со смехом сдвигая брови к переносице. Дядька ушел, но оставил открытой щелку в дверях — собирался подглядывать.
Сначала Волот ходил из угла в угол просто так, играя, и посматривал на дядьку, приложившего к щелке глаз, но не прошло и нескольких минут, как мысли его стали серьезными: он стал думать об отце, о том, как у него это получалось, как он зажигал в своих глазах этот огонь — далекий и ревущий. И вскоре захлопнул дверь, саданув ею дядьке в лоб — он на самом деле почувствовал волнение. Словно перед грозой. Словно ощущал рядом присутствие Перуна — своего небесного покровителя. Вот о чем надо просить богов — не о победе, и даже не об Удаче. Об огне в глазах, который поднимет войско! А вслед за ним придет и все остальное.
Волот прошел туда-сюда, от печи к кровати, ощущая, как предгрозовая дрожь охватывает тело. Не просить! Просят слабые. Требовать. По праву крови, по праву силы! По тому же самому праву, по которому он распоряжается тысячами чужих жизней. За ним стоит ополчение, двенадцать тысяч человек, готовых в бою сложить головы. За свою землю и за своих богов. И если люди готовы за богов отдавать жизни, громовержец не смеет отказать в такой малости.
Через полчаса Волота трясло, словно в горячке. Странная смесь страха и надежды переворачивала внутренности: страх покрывал лицо испариной, а надежда пела и трубила в рога. У него стучали зубы. Гроза собралась под потолком, густые клубы черных туч выбрасывали короткие молнии, словно стремительные змеиные языки — бог войны снисходил с неба на зов юного князя, его тяжелая поступь грохотала в ушах, его сила разрывала грудь пьяным восторгом — до тошноты.
За окном стемнело. Когда дядька принес доспехи, Волот перестал дрожать. Снизошедшая к нему сила не терпела суеты, она дремала на дне желудка, приоткрывая один глаз, как хищный зверь, готовый в любую секунду подняться на ноги и прыгнуть вперед.
3. Изборск
Ширяй в обнимку с Добробоем дрыхли на полу у входа — в тепле, от сытной еды разморило всех. Студенты сотни Млада тоже не особенно устраивались, лежали вповалку, и от их храпа тряслись хлипкие стены. Им на сотню выделили лавку какого-то купца, тесную, полутемную, с открытым очагом вместо нормальной печки, который пожирал дрова, но тепла не давал. Попробовали протопить очаг по-черному, но только перемазались сажей и плюнули — поленница за домом была не маленькой, хватило бы на три ночи, не то что на один день.
Обедом их кормили псковитянки, молодые и не очень, кашу варили в огромных котлах прямо на морозе, а свежий, теплый еще хлеб везли из Пскова. И до того женщины были с ними ласковы, называли помощниками и спасителями, что не очень-то верилось в рассказы о псковичах месячной давности: заносчивых и свободных. Студенты, непривычные к походной жизни, вяло откликались на ласку молодых красавиц, мечтая набить брюхо и поспать в тепле.
Млад оставил двух «костровых» — поддерживать огонь в нелепом очаге, но пока ходил к Тихомирову, оба они заснули тоже. И стоило так долго спорить о том, кто останется «костровыми»? Тихомиров расположился в большом тереме торгового посольства, куда собирался прибыть и князь, и уж там-то натоплено было на славу! Млад думал, что отогрелся, но стоило ему выйти на улицу и пробежать полверсты до своих, как на смену блаженному теплу пришел нездоровый озноб.
В лавке было холодно, душно, и пахло застарелым потом. Млад не стал снимать даже подшлемника, добрался до потухшего очага, перешагивая через спящих студентов, и хотел было разбудить «костровых», но, посмотрев на их лица, передумал: один прислонился к стене и храпел, неудобно запрокинув голову назад, а второй, свернувшись калачиком и подложив сложенные ладони под щеку, пускал во сне слюну из приоткрытого рта.
Млад присел на пол перед очагом, кинул туда сразу пяток поленьев и раздул огонь. Пусть их спят… Он завернулся в плащ и зевнул: за четыре ночи похода он не проспал толком и двенадцати часов. То боялся, что потухнут костры, то беспокоился, а не замерзнет ли кто из студентов. И опасения его не были напрасными — часовые засыпали, десятники и сами не умели ночевать в снегу, и за своими ребятами следили плохо. Двоих студентов из сотни отправили назад с полдороги: один простыл, а второй обварился кипятком, опрокинув на себя котелок. Это не считая подгоревших сапог — они грели ноги, и подпаленных стеганок, и обожженных пальцев, и отмороженных ушей. Один на самом деле едва не замерз, поругавшись с товарищами и решив вырыть себе отдельную берлогу. Но когда Млад привел его в чувство, тот оклемался очень быстро и сильно просил домой его не отправлять.
Тихомиров на все сетования профессоров отвечал одинаково: какой сотник, такая и сотня, и Млад не мог с этим не согласиться, поэтому не жаловался. Он никогда не умел заставить студентов себя уважать, его не слушались даже Ширяй с Добробоем, что уж говорить о ребятах постарше. И ведь надо было, надо было разбудить двоих разгильдяев, и отругать как следует, но Млад их жалел — они ведь не со зла.