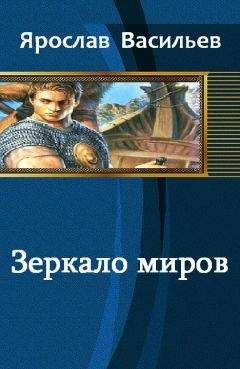Мервин Пик - Горменгаст
Собственно, так он и предполагал с самого начала. То была западня. Однако выплывать из нее на открытую воду было куда опаснее, чем отсидеться здесь несколько часов, оставшихся до наступления темноты.
Ветер, летя с горы, легко ворошил простор пресноводного залива, покрывая его поверхность подобьем гусиной кожи. Эта рябь уже проникала в пещеру, чуть покачивая челнок с борта на борт.
По другую сторону «залива» два одинаковых мыса с длинными линиями окон обратились в плоские силуэты на фоне сумеречного неба.
Зыблющиеся воды между ними смотрели в небо, пребывая в странном волнении: рыщущая взад-вперед рябь не представляла опасности и для самого маленького суденышка или даже пловца и все же выглядела до странного угрожающей.
Минута — и бездыханная тишь вечера обратилась в нечто совершенно иное. Сумеречное безмолвие, оцепенение каменно-серого света нарушились. Ничто не возмутило тишины, но воздух, вода, замок и темнота вступили в тайный сговор.
Холодное дыхание, вырвавшееся из груди этого комплота, должно быть, проникло, скользнув по гусиной коже воды, в пещерную спальню Стирпайка, поскольку он вдруг сел и сразу повернулся к окну, — и волоски на его спине встали дыбом, а рот обратился в волчью пасть: кровь полыхнула за хрусталиками его глаз, тонкие бесцветные губы разделились в рычании, словно на восковой маске вскрылся надрез.
Мысли Стирпайка заметались, он схватил весло и, подогнав лодку к окну, остановился в нескольких футах от него, чтобы оглядеть, не покидая совершенного мрака, залив.
Увиденное им в первый миг было лишь отражениями того, что теперь он видел полностью — оттуда, где поначалу стоял челнок, верхняя часть окна застилалась свисшим куском обоев. В первый миг Стирпайк углядел только отражения цепочки огней. Теперь он смотрел на фонари, горевшие на носах сотен лодок. Лодки растянулись полукругом, и, пока Стирпайк вглядывался, подтягивались к нему, точно густая стая светляков.
Однако страшнее лодок было подобие света, падавшего на воду под окном. Не сильного, но такого, что Стирпайк не мог приписать его происхождение последним остаткам дня. Да и оттенок света не был естественным. Нечто зеленоватое пронизывало легкую дымку, от которой Стирпайк оторвал глаза — с трудом, ибо лодки с каждым мгновением сокращали расстояние, отделявшее их от замковых стен.
Существовали ль иные истолкования того, что открылось ему — отыскивать их Стирпайку в тот решающий миг было некогда. Следовало исходить из худшего и самого кровавого.
Следовало исходить из того, что лодки растянулись по заливу не просто ради охоты на него, Стирпайка; что людям, плывущим в них, известно: он прячется где-то на суше, лежащей меж двумя мысами, — нет, все гораздо хуже: они точно знают, в какое окно он заплыл. Следовало предположить, что его видели вплывающим в эту западню, и не только жаждущие его крови ловцы рассыпались по воде, но и сам этот холодноватый, сверху льющийся свет отбрасывают фонари либо факелы, горящие в окнах прямо над ним.
Состояла ли единственная его надежда в том, чтобы выскользнуть из пещеры и, рискуя попасть под обстрел сверху, как можно быстрее пронестись по воде, прежде чем подплывающие лодки сомкнут, сближаясь, ряды и обагрят соединенным светом своих фонарей вход в пещеру, или не состояла, — надлежало ль ему сделать это и, сделав, и набрав в сумерках скорость, ласточкой пролететь по заливу, виляя, на что только его челнок и способен, из стороны в сторону в надежде прорвать кольцо фонарей и, промчавшись вдоль одного из поросших плющом мысов, вскарабкаться на него по грубым побегам, — надлежало ль ему сделать это или нет, сейчас для такой попытки было уже поздновато, — яркий желтый свет сиял за его окном, отражаясь в неспокойной воде.
Два тяжелых замковых судна, подобия барок, с двух сторон подползли по плещущей о стены воде к окну Стирпайка: это они, щетинясь факелами, изливали желтый свет, заплясавший, к ужасу убийцы, на воде, в которой с шипением гасли летящие с барок искры. Из темной безликой пустыни ближайшая окрестность окна обратилась в освещенную сцену, приковавшую взгляды всех зрителей. Каменные колонки по сторонам окна, древние, изгрызенные непогодой, казались теперь отлитыми из чистого золота, и отражения их вонзались в черную воду, словно желая поджечь ее. Столь же яркий свет заливал все камни вокруг них. Только само окно, подобное рту, через который светящаяся вода вплывала в лежащую за ним черную глотку, зевало прорехой на зареве. Ибо в густоте этого грубого квадрата тьмы ощущалось нечто большее, чем обычная чернота.
От барок требовалось только встать, поместив тупые носы вровень с каменными краями окна. Им надлежало залить сцену светом, ярким, как день. Аудиторию же, плотную, вооруженную, непробиваемую, должны были образовать стеснившиеся полукругом лодки с фонарями на носах.
Но люди, набившиеся в барки и державшие факелы на весу, как и те, кто плыл на лодках, уже приблизившихся к пещере на расстояние полета камня, кто орудовал в них веслами, были не единственными зрителями.
Десятки неровно раскиданных окон над входом в убежище Стирпайка уже не зияли пустотой, как было, когда Титус оглядывал их, сидя в челноке и ощущая промозглый холод этих заброшенных мест. Пустоты не осталось и в помине. Из каждого окна выставилось по лицу, и каждое вглядывалось вниз — туда, где расцвеченные огнями волны поднимались и опадали, заставляя тени людей на барках прыгать вверх-вниз по залитым светом стенам, о которые с плеском разбивались валы принесенной дождем воды.
Ветер усиливался, и некоторые лодки уже с трудом удерживались на отведенных им в цепи местах. Непогода была нипочем только наблюдателям наверху. Грозное войско скопилось там. Немногие из состоявших в нем бывали здесь прежде, еще меньшее их число забредало за последние пять лет в такую даль, как окрестности Тесака и Надгробий Малой Рубахи.
Графиня прибыла водным путем, а вот Титусу пришлось двигаться с головной фалангой посуху. Наступление сумерек и необходимость то и дело выбирать направление на перекрещениях коридоров и кровель делали путь сюда непростым. Поскольку же возвратная дорога была еще свежа в памяти Титуса, ему не оставалось ничего иного, как предоставить то, что он успел узнать, в распоряжение сотен людей, коим предстояло обшарить Надгробья. Однако еще раз проделать этот путь без посторонней помощи он бы не смог. Пока начальствующие служители Замка пытались сообразить, как им нести юного графа, он вспомнил о кресле на жердинах, в котором его несли с завязанными глазами в десятый день рождения. За креслом отправили гонца, и некоторое время спустя «сухопутные части» выступили на север во главе с Титусом, откинувшимся на спинку своего «портшеза» со стоящим в деревянном ящичке кувшином воды в ногах, фляжкой бренди в руке, караваем и сумой с изюмом на сиденье под боком. Время от времени, когда следовало переходить с крыши на крышу или подниматься по крутой лестнице, он вылезал из кресла и шел пешком, однако большую часть пути ему удалось просидеть, расслабив мышцы и отдавая, когда в том возникала необходимость, отрывистые приказания командиру Досмотрщиков. Темный гнев набирал силу в душе Титуса.
Что совершалось в его голове, пока он плыл сквозь вечерний воздух? Сотни мыслей мелькали в ней и еще сотней больше теней таковых. Но были средь них главные, огромные, затенявшие все остальные, раз за разом проталкивавшиеся в его сознание и при каждом своем возвращении вновь заставлявшие сердце болезненно биться. За недолгое время — за несколько последних часов — он трижды пережил смятение чувств, к которому вовсе не был готов.
Неожиданное, как гром среди ясного неба, появление неуловимого Стирпайка. Неожиданное, как гром среди ясного неба, известье о смерти Фуксии. Его, неожиданная, как гром среди ясного неба, мятежная вспышка — опасность, которую она на него навлекла, потрясение, которое вызвала в нем, всплеск возбуждения и трепет при мысли, что он больше не лицемер — изменник, ладно, пусть, но и мужчина, который сорвал налипшие на его платье колючие плети, овивший руки и ноги плющ и опутавшие мозг ползучие побеги.
Однако сорвал ли? Возможно ль в одно движение освободиться от обязательств перед домом своих отцов?
Пока носильщики тащили его по верхним этажам, Титус думал о том, что теперь он свободен. Скоро Стирпайка выволокут, как водяную крысу, из норы и убьют — и что тогда сможет принудить его, Титуса, остаться в единственном мире, какой он знает? Лучше умереть на границе этого мира, где бы та ни проходила, чем сгнить среди его ритуалов. Фуксия мертва. Все мертво. Мертва Та, мертв весь мир. Он перерос свое царство.
И за всем этим, за сбивчивыми мыслями поднимался гнев, какого он никогда еще не ведал. На первый взгляд могло показаться, что ярость, снедающая его, нелепа. И то, что было в нем благоразумного, могло согласиться с этим. Ибо причина его гнева состояла не в том, что Фуксия погибла и, как он полагал, от руки Стирпайка, не в том, что случайная молния отняла у него любовь к Той — вовсе не это, по разумном рассуждении, сотрясало Титуса желанием сойтись с пестролицым мерзавцем лицом к лицу и, если удастся, убить его.