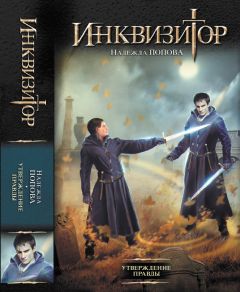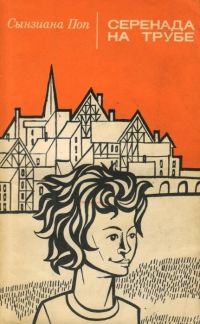Надежда Попова - Утверждение правды
О неизбежном завтра не мог не думать и сам Сфорца — это было видно по его лицу, когда он попадался навстречу в коридорах академии; это отражалось во взгляде каждого, кто задумывался о грядущем хоть на миг. Или, мысленно уточнил Курт, увидя своего помощника под дверью больного, просто без умирающего в эти дни человека не мыслится уже собственная жизнь, а оттого кажется, что с его уходом рухнет Вселенная; так внезапно осиротевшему ребенку мнится, что и весь прочий мир теперь не может быть счастливо живущим. Курт же, как и прочие выпускники, сиротел уже во второй раз, и эта потеря воспринималась, наверное, еще тяжелее, чем первая.
Помощник, когда он приблизился и встал рядом, так же прислонясь к стене, к нему не обернулся и ничего не сказал, по-прежнему глядя в пол у своих ног. Говорить, собственно, было не о чем. Вопрос о состоянии болящего не имел смысла; свершись уже ожидаемое — и лицо Бруно было бы другим, да и подстерегал бы он свое начальство не здесь, а под дверью аудитории, где проходила лекция, а то и вовсе прервал бы ее. Судачить о том, кто именно сейчас уединился с отцом Бенедиктом, тоже не стоило: было около полудня, а стало быть, подле него нарочно вызванный в помощь академическому эскулапу лекарь, пытающийся какими-то неведомыми средствами продлить угасающую жизнь. Готов ли Бруно к поездке, ожидающей их тотчас после, быть может, последней беседы с духовником, Курт видел и так: редко надеваемую, а оттого новенькую рясу, в которой помощник показывался на людях в нечастые дни спокойной жизни, тот уже сменил на дорожную, претерпевшую не одну чистку и штопку, и не по-монашески тяжелые подкованные сапоги были тщательно надраены. Единственное, о чем можно было спросить — для чего помощник делает это столь фанатично всякий раз перед дорогой, когда уже спустя четверть часа начищенная кожа покрывается слоем пыли или грязи, однако сейчас это была не самая уместная тема для разговора.
Можно было сказать о том, что уезжать из академии сейчас не хочется больше, чем когда-либо прежде, и услышать в ответ те же самые слова. Можно было поделиться своими опасениями касательно того, что следующая встреча с наставником наверняка не состоится. Можно было, в конце концов, сказать все то же самое и самому отцу Бенедикту, откровенно наплевать на полученное указание, никуда не ехать и остаться здесь, рискуя обрести на свою голову строгий выговор, но зато получив возможность быть рядом, говорить еще не раз и, быть может, не два с тем, кто долгие годы был единственным настоящим отцом. Можно было. Ему спустили бы с рук и не такое. А еще его пример остался бы перед глазами курсантов, будущих следователей, которые вот так наглядно познали бы, что приказ начальства можно нарушить, старшему не подчиниться, требуемый порядок презреть — не ради дела, а по собственному произволению. Поэтому с помощником Курт не заговорил, оставшись стоять под дверью, глядя в стену напротив и припоминая все, что должен успеть сказать и спросить в предстоящем последнем разговоре.
***Несколько дней назад, академия святого Макария Иерусалимского.
С детства родные стены сегодня выглядели мрачнее обыкновенного и казались почти гнетущими. Верхний этаж походил на главную улицу небольшого города — прежде безмолвные каменные коридоры были заполонены ровным гулом голосов, напряженным, но тихим и осторожным, дабы отзвуки шума не просочились за створку одной из дверей. Эскулап, затребованный на помощь лекарю академии, сказал, что отцу Бенедикту требуется покой и тишина, что, собственно, и без его наставлений прекрасно осознавал каждый. С приписанным целителем Курт повстречался как-то на лестнице; тот прошел мимо, не обратив никакого внимания на зацепившего его локтем майстера инквизитора, едва не столкнувшись с господином помощником, и заботился, кажется, всего более о том, как донести себя до подножья ступеней, не расшибив при том вдребезги. С отцом Бенедиктом, как сообщили Курту те, кто мялся под дверью болящего, остался лекарь святого Макария, почти никого к нему не допускающий, и, судя по его виду, дело идет к тому, что вскоре допускать будут всех — уже к телу.
Стремящихся попасть к еще живому было немало; все, кого смогли достичь сведения о состоянии здоровья духовника, кто сумел вырваться из власти начальства или обстоятельств, прибыли, как и сам Курт, сюда. С кем-то он, пройдя к двери, поздоровался, кого-то видел впервые, однако в его сторону обернулись все до единого. Издали, от самой лестницы, донеслось чуть слышное «Гессе», и даже разговоры на мгновение стихли. Курт покривился, переглянувшись с помощником, и тот обреченно пожал плечами. Подобные сцены перестали уже быть редкостью, вот только наблюдались они прежде лишь в попутных трактирах и городах, куда его забрасывала начальственная воля — взгляды исподволь, шепот и поминание его имени, испуганное, порою уважительное или ненавидящее. Но чтобы здесь, в родной академии, среди своих… Внезапно свалившиеся на голову слава и известность за почти десять лет хоть и стали неотъемлемой частью собственной натуры, хоть, надо признаться, в работе порою и оказывались к месту, в прочем бытии все же вызывали раздражение. Однако, если подумать, на их месте и сам наверняка вел бы себя так же…
Отчего-то все происходящее напомнило давний, самый первый день в академии.
Но если задуматься, было вполне очевидно, что именно пробудило эти воспоминания. Примерно так же, расползшись вдоль стен или сбившись маленькими кучками по двое-трое, косились друг на друга одиннадцати-двенадцатилетние мальчишки, которых свезли сюда из разных концов Германии. Курт, единственный кельнец, жался в тот день в угол, настороженно оглядывая своих собратьев по заточению и каменные стены высокого зала, где всем прибывшим было велено «сидеть тихо и ждать». Тишину обеспечивал крепкий мрачный тип, препоясанный мечом, в присутствии коего мысли о неблагопристойном поведении как-то затухали сами собою.
Зал был пустым, если не считать нескольких скамей у стен, каким-то затхлым и походил на заброшенную комнату. Позже будущие курсанты узнали, что здание, давшее им приют, когда-то было вполне процветающим монастырем, славящимся своим благочестием, каковое его и сгубило: во время давней еще, первой волны чумы братия постановила принять больных, дабы вверить их заботам своего лекаря, отличавшегося крайней талантливостью в своем деле. Лекарь был убежден, что придумал лекарство от черной смерти… Лекарь ошибся.
После сожжения тел умерших больных, лекаря и братии последние двое выживших удалились в обители с более строгим уставом, видимо, дабы залечить там в духовных подвигах души, раненные этой трагедией, а в монастыре так и не появились новые насельники. До тех пор, пока Гвидо Сфорца не зафрахтовал, по его выражению, пустующую каменную громаду.