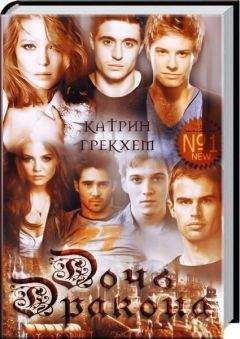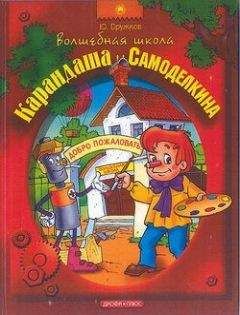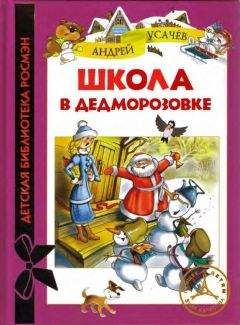Анна Коростелева - Школа в Кармартене
Тем временем внизу началось заседание парламента. Зал очистили от собак и прозвонили в колокольчик, но дела как-то быстро пошли вкось и вкривь. Не успел спикер объявить, какое сегодня число, на что очень рассчитывал Ллевелис, как слушание было прервано приходом каких-то крайне неприглядно одетых людей. Поднялся шум, кто-то кого-то отталкивал.
— Вы не должны здесь находиться, вы нарушаете неприкосновенность парламента! — кричал кто-то.
Навстречу оборванцам вышел офицер мушкетеров, обязанных поддерживать порядок в зале, и спросил:
— Что вы здесь делаете?
— Мы ищем Господа, — был ответ.
— Поищите его где-нибудь в другом месте. Не видите, его здесь нет? — дружески посоветовал офицер.
Новоприбывшие не успокаивались и продолжали протискиваться к столу спикера. Между скамьями и столом, где сидел спикер, была деревянная перегородка, похожая на прилавок. Они перелезли через перегородку и подступили к Кромвелю поближе. Кромвель отшатнулся от них.
К этому времени стало ясно, что это просители. Из их собственных выкриков следовало, что они выступают от имени народа, а из выражения лица Кромвеля — что то ли он их народом не считает, то ли он не очень хорошего мнения о народе в целом.
Просители велели одному из своих зачитать бумагу. Слова были слышны и наверху.
— «Мы, веря в вашу искренность, избрали вас в качестве наших поверенных и защитников, и вы, призывая Бога в свидетели, клялись со слезами на глазах не обмануть нашего доверия. Мы предоставили в ваше распоряжение то немногое, чем владели, и вы ограбили и разорили нас. Мы доверили вам свою свободу, и вы поработили нас, мы доверили вам свою жизнь, и вы убиваете и истязаете нас ежедневно».
Пока все это звучало под сводами зала парламента, Кромвель не раз и не два оборачивался на Змейка. Змейк сидел безучастно.
— Слушай, это известный очень какой-то документ, знаменитый. Это исторический день какой-то, — зашептал Ллевелис. — Помнишь: просители, петиция…
Внизу стоял гул от многих голосов.
— Вглядитесь внимательно в наши лица; попробуйте жить, как мы, на два пенса в день!..
Кромвель в очередной раз обернулся взглянуть на Змейка, как бы ища поддержки. Змейк кивнул ему.
— Довольно. Я положу этому конец, — вскричал Кромвель, сбежал с возвышения, выхватил кинжал и ударил им читавшего петицию. Тот упал. — Я отучу этих мерзавцев устраивать здесь погромы! Смерть…
— Боже мой! Это знаменитый день, точно. Это… это… 12 июля 1653 года! Травля собаками просителей в парламенте!.. Там же был и голод, и тяжелое положение, и действительно пришли люди с отчаяния!.. — потерянно говорил Гвидион, перегибаясь через балюстраду и стараясь разглядеть, что сталось с упавшим.
Змейк стоял, наблюдая за происходящим с некоторого расстояния. Затем он поднялся, легким шагом пересек возвышение вроде кафедры, спрыгнул с невысокого края и встал у Кромвеля за спиной. Затем появились собаки, явно ища, чем они могут быть полезны лорду-протектору, и подтверждая, что Гвидион помнит правильно.
— Я… совершенно не боюсь собак, — деревянным голосом сказал Ллевелис. — Но…
— Гоните вон весь этот сброд, — Кромвель слабо протянул руку вперед, указывая на жертв. Затем он пошатнулся. Змейк твердо взял его под руку и повлек прочь, попутно говоря ему что-то на ухо, и то, как Кромвель вис на нем, наводило на мысль, что без Змейка он, скорее всего, не может ступить ни шагу.
* * *
Гвидион открыл глаза. На огромной высоте у него над головой перекрещивались древние потолочные балки, каждая толщиной с дуб. Между балок царила тьма. Их зашвырнуло при возвращении в самые недра башни Курои, где на полу камнями был выложен очаг, над огнем кипел подвешенный на скрещенных копьях громадный котел и жарился на вертеле кабан. В углу, однако, стоял огромный канцелярский шкаф, куда следовало складывать письменные работы по пребыванию в прошлом.
— Зачем профессор Курои нас туда послал, как ты думаешь? — спросил Гвидион у Ллевелиса.
— Может быть, он хочет нас предупредить, что Змейк — страшная личность, запятнавшая себя многими преступлениями, и ученикам его следует быть осторожными? — предположил Ллевелис.
— Что ты говоришь? — возмутился Гвидион. — Это Змейк, который… столько с нами возится? Так старается для нас?..
— Знаешь, давай-ка я напишу за тебя отчет. А ты отдыхай. Прислонись вот тут к стенке, — заботливо сказал Ллевелис.
Он, тыча пером в полувысохшую чернильницу, нацарапал отчет, кинул его на стопку других отчетов и затем, очень оберегая Гвидиона, вывел его под руку из логова Курои.
Гвидион, который все это время что-то себе думал в своей упрямой голове, сказал:
— Я хочу увидеть Змейка.
— Ты не хочешь увидеть Змейка, — заверил его Ллевелис. — У тебя временный шок. Ты сядь вот тут на бортик у фонтана, я сейчас.
Пока Ллевелис бегал искал, из чего можно сделать компресс, к Гвидиону успел подсесть проходивший через южный двор Кервин Квирт. Между ними произошел загадочный разговор.
— Мы только что с практических приложений. Видели заседание парламента от 12 июля 1653 года, — сказал Гвидион.
— Когда мы в свое время изучали раздел о протекторате Кромвеля, я там видел публичную казнь, — сказал Кервин Квирт. — Черт его знает, от какого года и числа, не помню. Что вы думаете о профессоре Курои?
— Он замечательный человек. Он хочет, чтобы мы знали историю, — твердо сказал Гвидион. — Ну… кто не видел реакции алюмотермии, тот сберег зрение…
— Но кто видел алюмотермию, не забудет уже никогда, — закончил Кервин Квирт.
…Во дворе Западной четверти в разгаре была игра в три эпохи. Показывалось таинственное понятие: сначала в Древнем Египте для кого-то притащили саркофаг. Долго на него этот саркофаг примеряли, хорошо ли ему там лежится, не жмет ли, не натирает ли. Потом похлопали его по плечу и радостно начали пировать. В первобытном обществе Homosapiens sapiens, 40 тысяч лет назад, изображая все то же понятие, человеку нанесли на лицо яркую раскраску, привязали его на ночь к дереву, сами ушли и сели пировать. В третьей сценке опять-таки многие набросились на одного, крепко ухватили его за уши и принялись подтягивать кверху, хором считая вслух. Жертва жмурилась и визжала, но в целом не очень сопротивлялась. Удивляло то, что последняя сцена насилия, несмотря на явное варварство, была заявлена как «Европа, двадцать первый век».
— Я сам европеец, и век этот мне вроде знаком, но я жертвоприношений не одобряю, — строго сказал Мерлин.
— Может, лечат? — неуверенно предположила Энид.
Это был явный тупик. Ллевелису не терпелось поддержать отгадывающую команду.