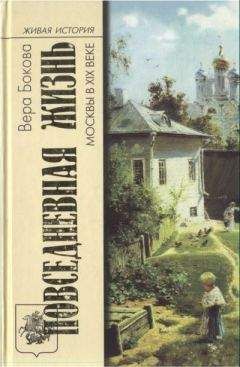Екатерина Казакова - Пленники Раздора
Лела была неулыбчива и сурова. Клёне рассказывали, будто эта девушка приехала в Цитадель вместе с матерью из Славути, и там‑де была она боярской дочерью.
Клёне это казалось неправдой. Зачем бы боярской дочери ехать с матерью жить в Цитадель, да ещё и поденщицей? Нелюба сказала, мол, допрежь гордячка у искройщиц трудилась, но как‑то раз зашел к рукодельницам Койра, принёс старую верхницу. Верхницу эту крефф сунул в руки первой попавшейся девке, коей на беду оказалась Лела. Сунул и приказал скроить для Главы обнову, эта, дескать, совсем плоха — латаная — перелатанная. А Лела возьми верхницу, да на пол и швырни. И, говорят, добавила к этому, мол, пусть хоть голым ходит! Койра от такого непочтения сперва девку высечь велел, а потом гнать от искройщиков на поварню на подённые работы — мыть котлы да топить печи, коли иной труд ей не по нраву.
Вот она и мыла. И топила. Но с лицом таким, будто не виновата была, а за правду пострадала.
И почему‑то ещё получилось, что невзлюбила Лела Клёну с первого дня, а отчего, дочка Главы не знала. Ведь не ругались, не ссорились и делить им было нечего, но только мимо Клёны Лела всегда проходила, словно мимо порожнего места, а ежели случалось той просить у ней что‑то, делала вид, будто не слышит, выполняла лишь тогда, когда иной кто приказывал.
Нынче Лела снова намывала горшки. И вроде бы ни слова она Клёне не говорила дурного, а тяготила. Да ещё не хватало Цветы, которую заместо боярской дочери отправили кроить и шить одёжу.
До позднего вечера Клёна хлопотала на поварне, чувствуя затылком холодный надменный взгляд. И так‑то на душе тягостно, а тут ещё Лела эта…
* * *Мара пришла в лекарскую под вечер, когда Ихтор отправился со своими выучами на нижние ярусы Цитадели, а на смену ему в Башне устроился один из послушников Русты.
— Ты чего это явилась? — удивился парень.
— Вот! — девушка гордо стукнула по каменному полу деревяшкой с прибитой поверх перекладиной, которая для чего‑то была обмотана старой ветошью.
— Что — «вот»? — не понял лекарь, разглядывая волчицу и её ношу.
— Не видишь что ли? — удивилась Ходящая. — Костыль. Крефф твой велел для воя раненого принести.
Юноша усмехнулся:
— Крефф мой велел тебя близко к вою раненому не подпускать.
Девка опечалилась:
— Ну и народ вы здесь… — она прислонила костыль к стене.
— Изеч, — позвал со своей лавки Фебр. — Дай сюда.
Парень всполошился:
— Не дам! Крефф не велел. Он мне голову открутит и к заднице пришьет!
— Ха! — Мара подбоченилась. — И ей там будет самое место!
— Изеч, — снова сказал Фебр, и в голосе послышалась гроза. — Дай сюда эту деревяшку. Или я сам тебе голову откручу, когда поднимусь.
— Слышал? — спросила волчица и тут же протянула костыль целителю: — На.
Парень уперся:
— Прочь поди вместе с деревяшкой своей. Крефф ему спать велел и не вставать, покуда не окрепнет…
— А ежели я скажу креффу, как ты настойку для мужика обозного надысь варил за десяток пряников? — спросил ратоборец, поднявшись на своей лавке.
Лицо парня вытянулось. Такой подлости он не ожидал.
— Дай. Сюда. — Приказал Фебр.
Послушник выругался сквозь зубы, вырвал из рук волчицы костыль и направился к лавке:
— На! Но учти — я держать тебя буду!
— Держи, жалко что ли, — сказал Фебр, всё ещё не веривший в собственное счастье.
— Погоди ты, — прыснула Мара. — Хоть оденься.
Она взяла лежащую на узкой полке стопу одежды.
— Эх, чудище косматое, уж и тощий!
Чёрная рубаха повисла на ратоборце, как, должно быть, повисла бы на его костыле. Изеч, ругаясь, помог вздеть обережнику штаны.
Ходящая покачала головой, глядя на то, как Фебр замер, борясь с дурнотой, причиной которой были одновременно и слабость, и привычка лежать бревном которую седмицу подряд. Ну, а ещё он увидел как нелепо болталась культя в свободной и слишком длинной для неё штанине.
— Ну? — спросила Мара. — Ты встанешь или так и будешь на свой обрубок любоваться?
— Встану, — огрызнулся Фебр.
— Так вставай! — усмехнулась она.
— Отстань ты от него! — зашипел Изеч. — Дай человеку с силами и духом собраться!
Мара нырнула Фебру под руку и посмотрела на лекаря:
— И сила, и дух у него есть, собирать незачем. Тяни!
Они разом выпрямились, поднимая и ставя ратоборца на единственную ногу.
Краска сошла с лица обережника, сделав его серым, словно остывший пепел.
— Дыши глубже, — посоветовала Мара. — Это потроха в тебе на место опускаются. Столько лежал!
Фебр, не глядя, протянул руку в сторону лекаря, пошарил в воздухе и Изеч, поняв все без слов, сунул ему под мышку костыль.
— Шагай, чего замер? — спросила волчица. — Стоит, как корни пустил.
Ратоборец, крепко обхватил деревяшку, сделал первый осторожный шаг и замер, заново обвыкаясь с собственным телом. Голова кружилась, увечная нога, которая стала вполовину короче прежнего, просила отыскать опору.
Целитель замер рядом, готовый в любой миг подхватить обережника. Фебр огляделся. Он уже и забыл, каково это смотреть вокруг с высоты собственного роста, а не снизу вверх, лежа на лавке.
— Ну как? — со страхом спросил ратоборца выуч. — Может, ляжешь?
Тот в ответ покачал головой.
Он стоял, сколько хватило сил, и даже сделал ещё несколько трудных неуверенных шагов от лавки к стене. Этот путь показался мужчине самой долгой дорогой в жизни. А потом он позволил дотащить себя обратно до скамьи, заплетающимся языком велел Изечу спрятать костыль, стянул рубаху с портами и заснул, так и не успев поблагодарить волчицу.
* * *В покое Главы Клёне было уютно. Она сидела за столом напротив отца и старательно, хотя ещё и не слишком быстро, чертила тонким писалом по бересте то, что диктовал Клесх.
— Молодец, — похвалил он. — Быстро учишься.
Девушка улыбнулась, и её строгое сосредоточенное лицо сразу преобразилось, похорошело.
— Что‑то ты невеселая совсем, — заметил вскользь Клесх. — Случилось чего?
Она пожала плечами, не зная, что ему на это ответить. Что случилось? Ничего…
— Ты Фебра перестала навещать, — сказал Глава. — Почему?
Клёна опустила глаза:
— Я там в тягость…
Отчим усмехнулся:
— Это он тебе сказал?
— Нет! — тут же встрепенулась девушка. — Нет…
И добавила едва слышно:
— Но я же не дурочка. Я вижу.
Клесх откинулся на лавке:
— И что же ты видишь?
— Вижу, что не в радость я ему. Не нужна, — ответила она, с трудом выталкивая слова, потому что было стыдно и, потому что брала досада — зачем он принуждает её рассказывать о том, о чём даже думать горько?