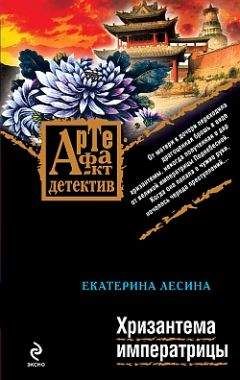Екатерина Фёдорова - Под сенью проклятия
В матицу рядом с кроватью был вбит пустой крюк от люльки. Парафена лежала на кровати пластом. Она была ещё не стара, лет на пять моложе Крольчи. Глаза равнодушно рассматривали что-то на потолке, темные волосы свисали с края кровати. Отчетливо пахло мочой, хотя ряднина под ней гляделась свежей. В вырезе белой сорочицы из добротного льна торчали острые ключицы.
— Ну что там, госпожа травница? — Высунулся из-за рогожного занавеса Крольча.
Ишь ты. Вот и госпожой меня величают. Даже к бабке Мироне так обращались лишь один раз, когда привезли порванного волками мужика, уж совсем не жильца.
Я наклонилась над бабой, погладила её по руке. Позвала:
— Парафена! Подобру тебе!
Она моргнула, и глаза её дернулись вправо-влево. Потом все-таки остановила на мне взгляд, приоткрыла губы, подвигала ими, словно дите, что пытается поймать ложку. Из угла рта капнула вниз слюна.
Все было, как и положено при ударе, вот только молода была Парафена для такой беды.
— А дети где? — Спросила я Крольчу.
Потому что говорить больше было нечего. Не помочь Парафене, никак.
— У сеструхи. — Выпалил тот. — Взяла она моих троих до Свадьбосева, у себя подержать, чтобы помочь. Я-то с ног уже валюсь.
И он глянул на меня с такой истовой, беспросветной надеждой, что мне захотелось отвернуться от стыда.
— Ну. — я опустила взгляд вниз.
На кровать. На руку Парафены.
За рогожными занавесями была полутень, солнце, игравшее в окошках, только и могло, что пробиваться лучами в щели и заливать светом потолок над жердями, к которым крепилась рогожа.
— Света. — Сказала я дрогнувшим, изменившимся голосом. — Света мне! Убери эти рогожи.
Послышался резкий треск — Крольча не стал мучиться, отодвигая занавески. Он просто их сдернул, нещадно оборвав лыковые петли, что их держали.
Посветлело. И стало видно, что не почудилось — по ногтям Парафены, в самом их начале, отступив всего лишь на два-три волоса от кожицы, тянулась красноватая линия.
Тридцать трав калечащих. Кириметь-кормилица, как же это? Все, как говорила бабка Мирона — красным волосом метка по ногтю, знак травы саможорихи, что пускает лист лишь в конце черемшаня-месяца. Сейчас первокур, а месяц черемшань только что кончился — стало быть, самое время для саможорихи.
А ещё Мирона добавляла, что ни она, ни бабка Олоша, наставница её, ни бабка Далиха, что когда-то учила саму Олошу, не видали людей, поевших травы саможорихи. Точнее — накормленных ею, потому как эту траву просто так не едят.
Если заставить человека съесть свежий лист, он расскажет все, что спросишь. А потом трава пережжет ему разум, и оставит от него одно неподвижное, но дышащее тело.
Моя больная левая рука непроизвольно дернулась, пальцы свело судорогой — то ли от долгой неподвижности, то ли от напряжения.
Я тряхнула кистью, сжала и разжала её, успокаивая боль. Глянула на Парафену.
Она двигалась. Значит, надежда ещё есть. Может, я смогу вернуть её — или хотя бы часть прежней Парафены.
Лежавшая на кровати баба глухо замычала, завертела головой из стороны в сторону. Похоже, её беспокоил свет.
— Дай ещё корзину. — Бросила я Крольче, отступая назад и не сводя глаз с Парафены. — В придачу к той, что принесла с собой. И пять пустых чистых горшков.
Тот убежал, споткнувшись на рогожах, брошенных прямо на пол.
В лес, что отделял Неверовку от дома госпожи Морисланы, я возвращалась чуть ли не бегом. В двух корзинах — одна на правой руке, вторая на больной левой — побрякивали горшки. Крольча сказал, что беда случилась с Парафеной восемь дней назад. Бабка Мирона говорила про лечение от саможорихи, но никогда не упоминала, помогает ли оно на таком позднем сроке. А ведь всякую хворь, тем более умственную, лечить надо сразу же, без промедления.
Не хворь, а отрава, поправилась я. Ясно, что бабу либо силой, либо обманом накормили травой, которая живет всего четыре седьмицы в году. И как раз сейчас саможориха в поре — с конца черемшаня по конец первокура, так мне бабка говорила. А сушеный лист, опять же по её словам, силы такой не имеет и ум напрочь не отсушивает.
Понятно, почему Ранеша не угадала причину беды — красноватая черта сразу себя не показывает. Ноготь должен нарасти, да так, чтобы метка вышла из-под кожи и стала всем видна.
Непонятным было другое — зачем? Ну зачем деревенской бабе давать саможориху? Ещё в начале учения, узнав о тридцати калечащих травах, я спрашивала бабку Мирону, кому такое может понадобится. И она сказала, что это дело господское. Изводить ворогов. Нам, простым людям, оно не надобно.
Однако Парафена никому из господ ворогом быть не могла — чего опасного в простой бабе? Её хозяйка, Морислана, даже дала служанке надел в приданое, значит, расстались они по-доброму. Тогда остается только одно.
Парафена служила Морислане ещё в Чистограде, сказала баба Котря. Может, я была не единственной тайной у госпожи Морисланы? И накормили бедолагу саможорихой, чтобы узнать нечто из прошлого госпожи моей матушки? А потом бросили бабу на опушке.
Я сдвинула брови и вошла в лес.
Лекарством от саможорихи была трава нижинка. Знала я её хорошо, потому что отваром нижинки поили тех, кто мучился от головных болей. Вот только против саможорихи варить траву не следовало — наоборот, следовало употреблять её совсем по-другому.
По тропе я не пошла, свернула в заросли. Нижинка всегда ростет в тех местах, где воды мало, и солнца нет. Взгорок под высокими деревьями — самое для неё место.
Окаймленные белым короткие стрельчатые листья нашлись на четвертой горке, если считать от опушки леса. По пути я высматривала в низинах, не мелькнет ли где низкий красный стебель с красными же черешками, лист небольшой, странный, темно-зеленый, по виду как обрубленный на конце лист подорожника — трава саможориха, как её описывала бабка Мирона. Негоже такой отраве расти там, где люди ходят. Долг всякой травницы выдрать её с корнем.
Но лес пускал мне в глаза лишь зеленое и коричневое, кое-где украшенное белым и лиловым от скромных лесных цветов.
В Неверовку я вернулась с полными корзинами. В пяти горшках лежали вырезанные с землей кустики нижинки, кроме них я прихватила чудову травку, тоже хорошее средство от головных хворей. Крольча ждал, широко распахнув обе створки ворот — как для дорогой гостьи, которой калитка уже не по чину.
Несколько деревенских баб подпирали ограду поблизости, хотя час был ранний и для работы вполне годный. Меня обозрели придирчиво, въедливо, однако с искренним почтением. К соседским заборам лепилось несколько детишек, глазевших на меня с ужасом и восторгом. Крольча снова принялся бить поклоны. Я остановила его: