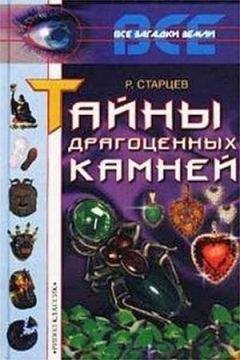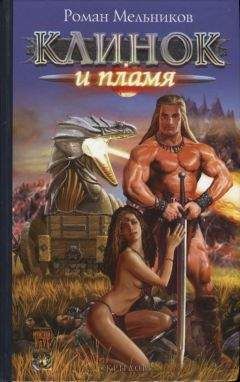Руслан Мельников - Тропа колдунов
Зигфрид не договорил. Осекся.
Иноземный рыцарь, не переставая улыбаться, резко и сильно надавил на рукоять, всаживая клинок себе в живот.
Заточенная сталь легко пронзила кожу и плоть. Кинжал вошел в левое подреберье. Глубоко вошел.
Брызнула кровь…
* * *Ни один мускул не дрогнул на желтом лице, ни единого стона не вырвалось из оскаленного рта. Только дышать пленник стал чаще да на лбу появилась заметная испарина.
Ошеломленный Зигфрид молча смотрел на язычника. Рана, которую тот нанес сам себе, была, вне всякого сомнения, смертельной, но полонянин и не думал останавливаться на содеянном. Не отводя взгляда от глаз барона, он продолжал медленно и сосредоточенно взрезать живот. Косая кровавая линия потянулась за кинжалом сверху вниз, через пупок, к правому бедру.
Зигфрид невольно шагнул вперед. Но тут же отступил. Что он мог сделать? И зачем?
На бледнеющем лице чужака еще отчетливее проступила желтизна кожи. С губ медленно сходила улыбка. Однако гримасы боли не замечалось, хотя боль от такой раны должна быть невыносимой!
Язычник вырвал кинжал. С изогнутого клинка капала кровь. В раздавшемся разрезе виднелись влажные потроха — вспоротые и выпирающие наружу. Однако и этого чужеземцу показалось мало. Пошатываясь от слабости и боли, сдерживаемой ценой нечеловеческих усилий, пленник вновь вонзил окровавленное лезвие в левую часть живота. Только на этот раз он резал себя снизу вверх.
Руки держали оружие уже не столь крепко, узкие глаза мутнели, а побледневшие губы начинали дрожать, но, видимо, самоубийца старался довести дело до некоего логического конца. И, наверное, довел…
Не очень ровный, но очень глубокий крестообразный разрез разошелся. Тугая скользкая связка кишок вывалилась на камни. Чужеземец повалился на нее, лицом вниз. Что-то хлюпнуло, булькнуло.
Из-под упавшего человека медленно-медленно потекли темно-красные ручейки.
Пленник был еще жив. Вокруг царила гробовая тишина, и в тишине этой отчетливо слышалось хриплое дыхание сквозь стиснутые зубы. Зигфрид знал, что от ран, нанесенных в живот, не умирают быстро. Смерть от таких ран мучительна, и она не приходит сразу.
В кровавой луже подергивалось человеческое тело. Рука, сведенная судорогой, все еще сжимала изогнутый кинжал.
Зигфрид гадал: чего язычник хотел этим добиться? Напугать их? Показать свое мужество? Молодому германскому барону не было понятно и не было привычно такое. Он видел смерть, и не раз. Но не такую.
Никогда еще на его глазах пленные не вытворяли над собой ничего подобного. Пленным полагается либо ждать выкупа, либо идти на эшафот, где с ними расправится палач. Самоубийство же… Само по себе самоубийство — великий грех, а столь жуткий способ сведения счетов с жизнью — и вовсе необъяснимое варварство.
Язычник умирал тяжело. Корчился, вытянув шею. Хрипел и захлебывался собственной кровью. Видимо, самообладание покидало его вместе с отлетающим сознанием. Зигфрид услышал первый стон: тихий, слабый, едва-едва различимый.
Все внимание барона и его воинов было приковано к иноземному рыцарю со вспоротым животом. Потому и не уследил никто за вторым пленником. Желтолицый кнехт-сигнальщик воспользовался моментом и неожиданно вскочил с земли.
Рыцарь, стоявший подле него с обнаженным клинком, не успел ничего предпринять. Только…
— Ваша ми… — И вскрик стража, брошенного на камни, оборвался.
Прямой рыцарский меч был теперь в руках язычника. Однако пленник не бросился наутек. И не ринулся в битву. Метнувшись стремительной тенью к умирающему господину, он взмахнул захваченным оружием.
Нанес один-единственный удар.
И когда голова самоубийцы отделилась от тела — отбросил меч с видом исполненного долга. Затем спокойно взглянул в лицо Зигфриду.
Что это было? Давние счеты? Или этот желтолицый кнехт, обезглавив старого господина, надеется выслужиться перед новым? Нет, не похоже. В раскосых миндалевидных глазах Зигфрид не видел и намека на холопскую покорность. Страха в них не было тоже. Скорее уж гордость от содеянного. Взгляд язычника был тверд и холоден.
Может быть, слуга просто хотел прекратить страдания умирающего? «А ведь от него тоже ничего не добиться, — отчетливо понял Зигфрид. — Ни пыткой, ни посулами — никак. Даже если он понимает по-нашему».
— Ваша милость, — осторожно подступил к нему Карл. — Что прикажете делать с пленным?
— Слуга не должен поднимать руку на своего господина, — хмуро произнес Зигфрид. — Никогда и ни при каких обстоятельствах.
Барон повернулся к стрелкам.
— Убить!
Два спусковых механизма звякнули одновременно. Два арбалетных болта ударили язычника в грудь. Стрелы швырнули одного чужеземца на обезглавленное тело другого.
— Уходим, — отдал Зигфрид новый приказ.
— Ваша милость, мертвых бы схоронить, — негромко пробормотал Карл. — Наших хотя бы…
— Господь милостив, — хмуро отозвался барон, — он примет их души и так.
Покойников в камнях быстро не схоронишь. А задерживаться на плато-ловушке после произошедшей стычки было опасно.
— Уходим, — повторил Зигфрид.
На этот раз перечить барону никто не посмел.
* * *Порывы стылого ветра едва не сбивали с ног. Впрочем, иначе здесь и быть не могло: в низаритской горной крепости Аламут ветрено всегда. А на открытой верхней площадке башни имама, откуда весь мир кажется павшим ниц, ветер и вовсе беснуется так, что трудно бывает услышать даже собственный крик.
У невысоких каменных зубцов стоял человек в развевающихся одеяниях — просторных и пестрых. В порывах ветра он был похож на птицу, раскинувшую крылья и приготовившуюся взлететь, но отчего-то не взлетавшую. Имам Времени, Шейх-аль-Джебель, Хасан-ибн-Шаабахт, Великий Сейд или просто владыка — его называли по-разному.
Имам задумчиво смотрел вниз, и сейчас можно было видеть только его спину, что и делал поднявшийся на башенную площадку крепкий чернобородый мужчина в белой накидке с широким красным поясом. Чернобородый не решался подступить близко и не смел заговорить первым. Он молча ждал приглашения. Имам держал в руках зурну. Пронзительный звук этого инструмента обычно успокаивал хозяина крепости в минуты волнения и помогал сосредоточиться, когда приходило время размышлять о чем-то особенно важном. Имам любил играть на зурне под свист ветра.
Но сейчас зурна молчала. Имам поднял руку, выкрикнул слово, сотворил знак. Умолк и ветер. Очередной порыв разбился о невидимую преграду. Развевающиеся одежды имама опали.
Стало тихо. Достаточно тихо для того, чтобы говорить негромко. Впрочем, в этой крепости не было необходимости таиться от чужих ушей. В этой крепости все уши были своими и благоговейно внимали словам лишь одного человека.