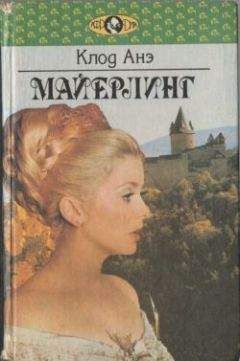Надя Яр - Эсэсовец (Сон)

Обзор книги Надя Яр - Эсэсовец (Сон)
Надя Яр
Эсэсовец
(Сон)
Wir wachten nachts auf
und waren schwarz vor Fieber
— Paul CelanМы ночью проснулись
И были от жара черны
— Пауль СеланПеред сном они говорили о смерти.
— «Safe in their Alabaster Chambers —
Untouched by Morning
And untouched by Noon —
Sleep the meek members of the Resurrection —
Rafter of satin,
And Roof of stone…»[1]
У ведьмы был высокий девичий голос с ломкой стеклянной нотой. Недурной голос. Она любила читать стихи вслух и умела их выбирать. За прошедшие несколько дней Герман Граев успел прослушать здесь неплохой сборник. Стихи, стекло, Стекловский… Интересно, она всегда любила стихи, или этот бедовый поэт её заразил?
— У неё множество таких стихов, — сказала Надя, закрывая книгу. — Она всё время думала о смерти, потому что вокруг неё всё время умирали люди. Родственники, знакомые… Её окно выходило прямо на кладбище.
Чёрная кошка вылезла из-под одеяла, робко пошевелила усами и свернулась на коленях ведьмы. Ты обходишься без окна, в уме парировал он.
— Пернатый Змей любил её, — продолжала ведьма, — и хотел сделать своей женой, но что-то там не сладилось — то ли она отказывалась, то ли он слишком долго ждал. Он ведь ценил её стихи. Смертность была основой её личности, краеугольным камнем её тождества как поэта. Он, наверно, боялся разрушить в ней это и медлил. Она взяла и умерла. От горя он был… Вне себя.
Герман кивнул.
— Знаешь, как это выражалось?
— Какая-то разборка в Мексике?
— Массакры в Мексике, — сообщил Герман. — Ничего страшного — сколько-то десятьтысяч мёртвых…
Он внимательно наблюдал за её лицом. На миг там отразилось огорчение, но лицо это тут же опять обрело то самое возвышенно-мечтательное выражение, что проступало на нём при каждом упоминании Президента Нового Света. Надя была из тех украинских детей, которых Змей отравил своей пропагандой, неуловимой мечтой о свободе и невнятными обещаниями избавления от несуществующих тягот. Своими песнями, фильмами, даже стихами. Надя немного принадлежала Змею, часть её сердца была полна его образом, и с этим ничего нельзя было поделать. И она это распространяла. Строки всех этих её стихов — а это были в каком-то смысле её стихи — отслаивались в голове Германа и оставались в памяти навек.
Герман сидел и смотрел, продолжая изучать ведьму. По ней было видно, что ничего нового он ей не сообщил. Она знала про эти массакры. И что это значит? Во-первых: милый характер вероятного противника известен населению на уровне выпускников киевской средней школы. Не то чтоб это в случае войны могло решительно помочь, а всё-таки плюс. Но, во-вторых, такие знания, видимо, не мешают воспринимать мистера Серпента как положительного, романтического героя… Впрочем, у нас теперь, кажется, другой противник — нечисть, взрывающая жилые дома и атомные реакторы и отрезающая людям головы на Ю-тубе. Значит ли это, что мистера Серпента отныне надо считать союзником в общей войне?
Надя встряхнулась — или вздрогнула? — виновато погладила кошку и снова затеребила книгу.
— Герман, ты боишься умереть?
— Нет, — ответил он. И если бы у меня был выбор между естественной смертью и вечностью в компании твоего кумира, я тоже выбрал бы смерть, как Эмили. Но этого он Наде не сказал. У него не было приказа раздражать её или судить. Его прислали её охранять.
— Пока я есть, смерти нет, — пояснил он. — Когда она наступит, меня не будет. Мы с ней никогда не встретимся.
— Можно и так сказать. Но вообще-то это она положит конец твоему «есть». Обрежет нить твоего бытия, — сказала Надя. — Это и будет ваша встреча.
— Может, и так, но я уже не смогу это осознать. Значит, смерти как будто нет. Я её не боюсь.
Он вообще ничего не боялся, потому что не умел, но ей было необязательно это знать. Что бы она состроила за лицо, если бы он сказал ей, как её прозвали в среде московских либеральных неформалов? «Девочка-и-смерть». Если бы Герман умел бояться, он не попал бы на эту работу.
— Сейчас так многие говорят, — задумчиво сказала Надя. — И говорят, видно, правду, не лгут. А наши предки боялись смерти. Ещё в девятнадцатом веке люди умирали гораздо чаще, причём молодые люди. Эмили Дикинсон потеряла более тридцати друзей и подруг из-за одного только туберкулёза. Она была ещё не стара. Представь себе этот кошмар: не успеешь прожить полжизни, как половина твоих друзей, одноклассников и знакомых уже в гробу из-за туберкулёза, сенной лихорадки и прочей такой заразы. И всё это рядом, в соседних домах, у всех на виду… Герман, ты видел смерть близких людей?
— Нет.
Он её нюхал. Ему было четыре года, когда жители униатских районов Львова нашили на одежду красные кресты и организованно подожгли свой город — бензоколонки, магазины, парки, больницы, дискотеки, школы, приюты бездомных животных, дома престарелых… Даже собственные квартиры, родные хаты. Они убивали тех, кто пытался тушить огонь. Львовские милиционеры и пожарные либо погибли от рук поджигателей, либо к ним присоединились. На город были брошены союзные войска и спецподразделения пожарников. Среди них были братья матери Германа, Яков и Михаил. Семья так и не узнала, как они погибли — убило ли их слепое пламя или к этому приложили руку люди. Если, конечно, униатов Львова на тот момент можно было считать людьми. Много лет спустя Герман видел фотографии трупов в личном деле своей семьи — сухие, скорченные, прогорелые до костей кочерыжки, опознанные лишь по жетонам. Присланные с Украины гробы были закрыты и до, и во время похорон. Бабушка страшно выла во дворе, рвала на себе волосы и лицо и за два дня превратилась из статной красавицы в седую, горькую бабу преклонных лет, а дед сказал «Ну вот я и расплатился» — «Ich habe bezahlt» — и с тех пор ходил на выборы в сельсовет, как русские мужчины деревни. Никто не обращал внимания на тихого спокойного ребёнка, и Герман подошёл вплотную к длинным деревянным ящикам, покрытым алыми знамёнами, словно живым огнём, и хотел было поднять крышки, но передумал. Гробы источали тонкий, но явный запах палёной смерти.
— Я видел бабушку в гробу, — сказал он. — И деда.
После смерти бабушки Германа дед недолго прожил. Бывший эсэсовец лёг в русскую землю, как жил — кость, плоть и кровь — упокоившись рядом с Марфой, своей женой. Таким образом Марфина земля всё-таки стала его, хоть он её и не покорил. Это земля покоряла всё. Герману недоставало деда. Бабушка будто не ушла навек, её незримое присутствие ощущалось во многом — в церковном звоне подмосковных деревень, осенних листьях, сизых тучах и воде — а вот смерть деда оставила пустоту, которой не было заполненья. Петлица с руной СС на воротнике куртки только маркировала отсутствие, ничего не давая.