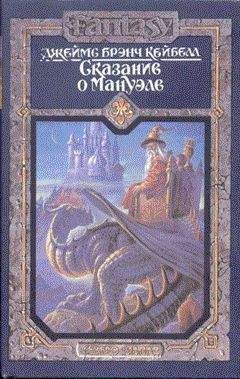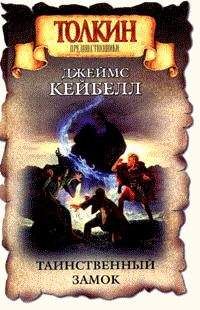Джеймс Кейбелл - Тонкая королева Эльфхейма

Обзор книги Джеймс Кейбелл - Тонкая королева Эльфхейма
1
Сколько нежных дам (убедившись, что их не слышат мужья) возрыдали, когда учтивый Анавальт покинул двор графа Эммерика, — того сказать невозможно. Во всяком случае, число их оказалось велико. Были, однако, — гласит повесть, — три женщины, чья скорбь оказалась неутешна; и они не плакали. Тем временем — тайные печали остались за спиной Анавальта, мертвая лошадь лежала у его ног, а сам рыцарь стоял на распутье и с некоторым сомнением разглядывал внушительных размеров дракона.
— Отнюдь, — сказал дракон, укладываясь поудобнее, — отнюдь нет, ибо я только что пообедал, а физические упражнения на полный желудок вредны для здоровья, поэтому битвы не жди. Добро пожаловать в Чащу Эльфхейма. Иди своей дорогой.
— И все же, — ответил Анавальт, — что, если я напомню о твоем долге и дьявольской натуре? что, если буду настаивать на смертельном поединке?
Когда драконы, лежа на солнцепеке, пожимают плечами, их тела идут долгой зеленой блистающей рябью.
— Тогда победа останется за тобой. Такая у меня работа — быть сражаему в этом мире, где у всего есть две стороны и каждому дОлжно опасаться оборотной. Скажу тебе откровенно, усталый путник: все мы, ужасные создания, которые приятно разнообразят дорогу к Оной Деве, для того здесь и сидим, чтобы нас побеждали. От этого путь кажется труднее, и вы — те, у кого в теле есть душа, — преисполняетесь решимости дойти до конца. Наша тонкая Королева давным-давно поняла, что нет способа вернее заманить мужчину на пеструю мельницу, чем уверить его в своей недоступности.
Анавальт на то:
— Вполне понимаю; однако сам не нуждаюсь в подобных приманках.
— Ага, значит, ты не был счастлив там, где у людей есть души? Наверное, ты недоедаешь: если питаешься регулярно, остальное уже не так важно. И точно! Усталый путник, а ведь в твоих глазах голод.
Анавальт ответил:
— Давай не будем обсуждать ничьи глаза, ибо не голод и даже не дурное пищеварение ведет меня в Чащу Эльфхейма. Дракон! Очень далеко живет та, на которой я женился десять лет назад. Мы любили друг друга, деля благородную грезу. Сегодня мы спим вместе и грез не видим. Сегодня я выступаю в пламяцветном атласе, и вслед за герольдами вхожу в светлые залы, где короли ждут моего совета, и всё, что я скажу, становится законом для городов, которых я даже не видел. Владыки мира сего полагают меня мудрецом и твердят, что нет человека проницательней Анавальта. Но когда я, словно бы вскользь, поминаю об этом дома при жене, она улыбается, и невесело. Ведь жена знает меня, и мои силы, и мои успехи лучше, чем я сам хотел бы знать; и я больше не могу выносить этот всепрощающий взгляд и недоуменную боль, что за ним таится. Так что давай не будем обсуждать ничьи глаза.
— Ну, ну! — заметил дракон. — Если на то пошло, я думаю, что не подобает обсуждать свою семейную жизнь с незнакомцами — особенно если те как раз пообедали и собираются вздремнуть.
Усы лютого змия поникли, а сам он свернулся тремя кольцами вокруг столба, на котором висело объявление «В чащу не входить». Время, как видите, изнурило дракона и погасило блеск его чешуи; для него больше не находилось занятий в мире, где люди позабыли миф, в котором змий привык вести чудовищный образ жизни; так на склоне лет бездомный дракон стал охранять Чащу Эльфхейма.
И Анавальт оставил за спиной бесполезное и старомодное чудовище.
2
Повесть гласит, что, оставив за спиной бесполезное и старомодное чудовище, Анавальт направился в чащу. Он не думал ни о пахотных полях, ни о сундуках с монетами новой чеканки, ни о богатых поместьях, которыми владел в мире, где у людей есть души. Бредя по неверной земле, Анавальт думал совсем о другом. По правую руку от тропы показалось двенадцать существ: платья их были красными, волосы — зелеными, а браслеты на запястьях — серебряными. Все двенадцать были схожи обликом, возрастом и красотой; во внешности ни малейшего изъяна и ни малейших отличий. Тонкие и нежные голоса выводили плач, следуя звонкой мелодии: они пели о том, как прекрасно былое и ужасно теперешнее, и никто лучше Анавальта не понимал причин их скорби, но, поскольку женщины эти ничем не досаждали ему, то он и не стал вдаваться в их секреты. Итак, Анавальт шел вперед, и никто не преграждал ему путь, разве что кузнечик прыгал из-под ног да мелкая лягушка отползала с тропы.
А потом он увидел синего быка, лежащего поперек дороги.
3
Повесть гласит, что синий бык лежал поперек дороги — огромней и страшнее всех прочих быков; к этому повесть прибавляет, что части тела, дающие жизнь и смерть, у зверя были поистине выдающихся размеров.
Учтивый Анавальт воскликнул:
— О Нанди, яви свою милость и позволь мне без задержки пройти к пестрой мельнице!
— Подумать только, — ответил бык, — что ты принял меня за Нанди! Нет, усталый путник, Бык Богов бел, а этому ясному цвету нет места в здешней чаще.
И бык кивнул со всей важностью, тряхнув синими прядями, что росли между жестоких рогов.
— В таком случае, сударь, прошу простить мое заблуждение, вполне объяснимое величием вашего облика.
Говоря так, Анавальт и сам не понимал, чего ради он тешит чужое тщеславие — ведь бык этот был не более чем властителем Деликатной Скотины, которая пасется у росных прудов. Когда в мир пришел Искупитель, дела королевы Эльфхейма совсем расстроились, и ныне она могла позволить себе лишь самых дешевых слуг — ведь Боги ей больше не служили.
— Так ты полагаешь мой облик величественным! Подумать только! — заметил явно польщенный бык и щедро выдохнул голубое пламя. — В учтивости тебе не откажешь. Оно и не странно: ведь ты пришел из властного мира, где у людей есть души. И все же, как говорится, долг есть долг; слова — что лунные лучи, ими не насытишься; словом, я не вижу ни одной веской причины, по которой тебя стоит пропустить к королеве Ваэ.
Анавальт ответил:
— Я должен идти к твоей тонкой госпоже, потому что там, далеко, среди женщин, чьи тела мне дано было узнать, есть одна, которую я не могу забыть. Некогда мы любили друг друга; в те лучезарные дни мы, как я припоминаю теперь, безоглядно и наивно верили в то безумие, которое нами владело. А потом я вдруг охладел ко всему и обратился к более здравым материям. Она так и не завела себе нового любовника и живет теперь в одиночестве. Ее красота и живой смех давно исчезли, она стара, и в доме ее нет радости — а ведь она должна была стать нежнейшей из жен и счастливейшей из матерей. Когда я гляжу на нее, то в карих глазах, некогда ясных и лукавых, не вижу ненависти, лишь всепрощение и недоуменную скорбь. Нет разумных причин, отчего я должен думать о ней иначе, нежели о дюжине других женщин, которых знавал еще девами, — но сидит во мне какое-то неразумие, и оно не дает выбросить из памяти то, каким меня видела эта женщина.