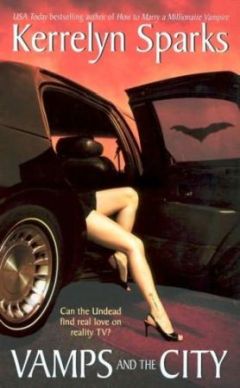Ольга Михайлова - Бесовские времена
Чума вздохнул и почесал левую бровь. Да, девица была не гулящей. И не глупой. И миловидной. Грациано вспомнил спящую Камиллу на сене в овине… Губы его пересохли. Да, хорошенькая… В памяти всплыл абрис округлой груди в вырезе платья… Красавица, да, конечно. Тут челядинцы распахнули дверь в комнату Фаттинанти, откуда стали выносить тело. Снова послышались рыдания Гаэтаны.
— Так ты думаешь, что убийца вменяем?
— Что? — Грациано был так поглощён своими мыслями, что забыл и про убийства… — а… убийца… да.
Всё это как-то вдруг отошло, перестало занимать. Чума глубоко задумался. Да, девица хороша. Можно быть спокойным за свою честь — такая заразу в дом не принесёт и рогами не украсит. Что там сказал Бениамино? Добиться такой особы трудно? Ну, это только к покойнице Черубине подкатить было просто, упокой Господь душу её с миром.
Грациано на несколько часов уединился у себя в комнате, невидящим взглядом глядя в каминное пламя. Семь горестных лет его юности, с той минуты, когда признание брата, любимого Джулиано, сместило в нём все твердые мнения и уверенность в разумности мира, проносились перед ним. Тело брата распадалось и смердело, гибель вошла в него через женщину, и с того часа в Грациано поселился животный ужас перед плотью, с того проклятого дня он не замечал в себе возмужания, подавлял растущий зов плоти, отворачивался от женщин.
С похорон брата плоть в нём замерла на годы, напрягались только руки на рукояти меча и ум, искавший в ветхих свитках объяснение несообразностей мира. Грациано давно понял, что брат сам был повинен в случившемся, ибо подчинил душу похотливым помыслам, и сам усилием мощной воли отторгал подобное от себя. Портофино угадал верно — его целомудрие было не посвящением своей чистоты Богу, но животным страхом смерти, которую душа, чем она божественней, тем более отторгает.
Грациано Грандони сохранил в душе только одну любовь — ныне уже непонятную тысячам — покорную любовь к Господу, присутствие Коего ощущал и боготворил в себе. Вера спасала в отсутствие надежды и любви, не позволяя сломаться или согнуться, — и вот… он полюбил? Чума закрыл глаза и вспомнил, как впервые увидел молодую фрейлину в замке — она играла на лютне герцогине Элеоноре. Он запомнил только изящный наклон шеи и удивительные нефритовые глаза, опушенные длинными ресницами. Он тогда почувствовал… раздражение — ибо не мог ничем отстранить от себя и высмеять исполненное скромного достоинства поведение и бесспорную привлекательность девицы. Мы не можем смеяться над ненавидимым, объяснял он когда-то фрейлине. Увы, над любимым — тоже, ибо и оно сильнее нас. Грациано смог внушить себе, что девица просто… глупышка и трусиха, но после ночи в овине чувствовал неодолимое плотское влечение к ней, и раздражался ещё больше. Но потом он злился уже безмерно, понимая, что не нравится ей, и лишь её неожиданные слова после турнира подлинно перевернули его душу. Но теперь мессир Грандони понял, что на самом деле сердце его пленилось ещё при первой встрече.
Любовь. Женщина… Господи…Что с ним? Девица учащала его пульс, заставляя сердце колотиться в груди. Ночами он теперь грезил об обладании её. Это любовь? Он волновался и робел в её присутствии. Она не походила на других, была красива и пьянила его. Он любит её? Ну… допустим. Но что сказал Бениамино? Что…она отвергнет его? Грациано оторопел. Это ещё почему? Если он решил, что получит её в жёны — он её получит! Да и почему бы девице за него не выйти? Он детей и жену обеспечит, — денег у него в избытке, да и девице прямая выгода за него выйти: время опасное, а она под его защитой будет, уж при нем-то никакой побирушка к ней не приблизился бы, никакой мерзавец на лестнице не подстерег бы. Чума так уверил себя в том, что Камилле просто некуда деваться, кроме как выйти за него замуж, что торопливо поднялся. Он не имел обыкновения обдумывать свои планы, ибо не имел доселе и планов, но теперь, решив жениться, не намерен был тянуть с осуществлением задуманного. Он не ждал отказа — даже просто не думал об этом. Он решил. Точнее — решился.
Все, что теперь требовалось — обвенчаться с девицей.
Чума поднялся и устремился в коридор к фрейлинам. Камиллу Монтеорфано он обнаружил сидящей на скамье вместе с тем единственным мужчиной, к которому не мог ревновать. Аурелиано Портофино был зол, как собака. Антонио ди Фаттинанти был не самым последним человеком и далеко не самым худшим из людей. Гибель Франчески Бартолини — совсем рядом с комнатами фрейлин — напугала Лелио. Сейчас он настаивал, чтобы Камилла немедленно вернулась в палаццо Монтеорфано. Сестра не особенно возражала брату, просто говорила, что не может уехать без разрешения герцогини. Мессир Грандони галантно поклонился юной особе и тихо присел рядом. Грациано был согласен с Портофино, во дворце стало просто опасно, но отнюдь не хотел, чтобы девица покидала замок.
Когда Портофино оставил их, мессир Грандони подсел ближе к девице. Сердце его почему-то колотилось как безумное, дыхание спирало. Он разозлился на себя. Ну почему он не может быть собой? Тут Грациано заметил, что Камилла совсем бледна и едва не плачет.
— Бедная Гаэтана, Боже мой, такая потеря…
Чума напрягся и сдавленным голосом осторожно спросил:
— Это потеря и для вас, Камилла? Мессир Фаттинанти ухаживал за вами…
Она вздохнула.
— Он был порядочным человеком.
Голос мессира Грандони был мягок, но трудно было не заметить в нём принужденность.
— Вы любили его? — интонация его голоса была скорее утвердительная, чем вопросительная. Сердце его выскакивало из груди. При жизни Антонио Чума не замечал, чтобы Камилла предпочитала его, но…
На лбу Камиллы залегла морщинка.
— Нет, — она вытерла слезы, — но я уважала его, — сейчас, когда несчастный погиб, ей не хотелось высказывать своё подлинное мнение о нём, — бедняжка Гаэтана… Он заботился о ней с подлинно братской любовью. Ужасно. Он мечтал купить замок в Пьяндимелето, строил планы… А несчастная Франческа… Ужасно. Кто это делает? — всхлипнула она. — Брат сказал, что это тот, кого мы уважаем, иначе Антонио не выпил бы с ним… — Камилла, которую рассказ Дианоры заставил изменить мнение о мессире Грандони, за прошедшие дни поняла, что это достойный человек, перестала обдумывать сказанное ему, говорила теперь искренне и горячо.
Чума же и слушал и не слушал, в висках стучала кровь, сердце билось рывками. Она подняла на него глаза и вздрогнула: глаза его пылали, он смотрел на неё, не отрываясь, от него веяло пламенем.
— Я по ряду причин… — Чума запнулся, потом голос его выровнялся, — я не склонен, синьорина, расточать похвалы женщинам… Просто… обстоятельства… Но хоть мои… — Грациано снова смутился и потерялся.