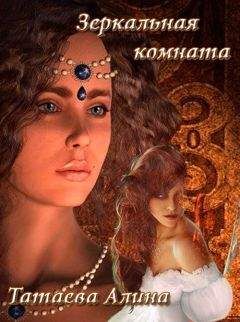Александр Лонс - Химера
Время тянулось неприлично медленно. Но при всем однообразии дней там, любопытные моменты откладывались в голове, но, заранее зная насколько все это неинтересно, пропадало всякое желание объяснять, рассказывать, делиться. А потом постепенно все забывалось. При моей природной молчаливости это тоже начинало быстро надоедать, даже забывание.
Наконец меня отключили от стационарного оборудования и перевели в обычную палату. Мускулатура заметно ослабла, я еле-еле передвигался и мгновенно уставал. Говорил я тоже очень плохо, язык отвратительно слушался, после вставленной трубки болело горло, а общее ощущение напоминало состояние скверного похмелья. Врач прописал физиотерапию, лечебную физкультуру, разные вливания и какие-то таблетки. Это был уже другой доктор — лысый мордастый флегматичный крепыш с сильными, как у мясника, руками и безразличными интонациями в голосе.
Меня вел сам заведующий отделением.
Сменился не только врач, после перевода поменялось вообще все. Здесь уже не было страшных приборов, неприятных ритмичных звуков и сердитых больных старух. Здесь лежало еще двое больных дядек. Мужики все время разговаривали о футболе, о каких-то мифических бабах якобы бывших у них в употреблении, смотрели боевики по видеоплееру, тайком пили водку и ходили курить в уборную. Звали обоих как по заказу — Николай Петрович и Андрей Петрович. Обоим Петровичам было где-то между сорока и пятьюдесятью. Вечерами их посещали жены — толстые и некрасивые.
Ко мне не приходил никто. Более того, если я изыскивал возможность позвонить своей жене, номера не отзывались. Ни городской, ни мобильный. Я даже написал несколько писем, но никаких ответов не получил.
Интересно, а кто оплачивает мое нахождение здесь?
Больница — это от слова «боль». Не помню, вернее не знаю, кто и когда сформулировал сей афоризм, но тут действительно все пропитано болью. И запах соответствующий. Откровенно говоря, любая больница — это тюрьма для активного человека, и вся немощь, с которой тут сталкиваются, конечно же, давит на психику… Вернее — на ее остатки. Любая больница — это скопление больных людей и нездоровое место. Это очень тяжело для активного человека. А если полежать тут полгода? То прямая дорога в психушку. Контингент здесь тоже соответствующий, ибо нормальные люди предпочитают при первой же возможности сорваться и свалить домой. Внешне все тут спокойные, передвигаться стараются как можно медленнее, не делая лишних движений, экономят энергию, разговаривают в полголоса, еле открывая рты. Как зомби, только мирные. Персонал там тоже весьма многообразный — есть очень славные спокойные люди, а есть откровенно хамоватые субъекты.
Если смотреть в окно, то видно как там кипит жизнь. Человек готов отдать все, лишь бы снова вернуться туда. Вернуться в этот безумный город, вернуться в эту бесконечную круговерть безостановочного и беспрерывного движения. Самому контролировать свою жизнь, решать, что и как делать, где и с кем поддерживать знакомство.
Наше отделение занимало самый верхний этаж крыла больничного здания. Выше располагался только чердак, или технический этаж, как его все называли. Входы туда крепко закрыты железными дверями, а ближние подступы загораживали стальные решетки. Но между верхней ступенькой каждой лестницы и соответствующей решеткой оставался доступным кусочек пола шириной примерно метра полтора и диной метра два. Эти участки носили местные названия — «Правая Плешка» и «Левая Плешка», в зависимости от лестницы, которую они завершали.
У некоторых мужиков, особенно у тех, кто «полегче» и помоложе, имелись подруги из женской части нашего отделения. Когда оставался только дежурный медперсонал, наиболее здоровое население из числа пациентов по очереди путешествовало на ту или иную «Плешку». Здесь, на специально приносимом для этой цели больничном одеяле, занимались сексом. Кто как умел, и кто как мог.
В других отделениях больницы дела обстояли тоже не лучшим образом, но на какие «плешки» ходили тамошние постояльцы, для меня так и осталось невыясненным.
Днем, чтобы не торчать в палате, я обычно сидел в холле, пока там не работал телевизор. В отделении обнаружилась небольшая библиотечка, состоящая, как я понял, из забытых и пожертвованных пациентами книг. Кроме обязательных дамских романов, дежурной фантастики, стандартных боевиков и парочки неплохих детективов там оказались довольно-таки неожиданные вещи. Так я нашел, неведомо какими путями оказавшиеся в этой юдоли скорби, томик Карлоса Кастанеды и прижизненное издание «Лолиты» Набокова на английском языке.
Как-то после обеда, когда я сидел в холле и читал «Сказки о силе», ко мне подсел некто в сером больничном халате. Это оказалась крепенькая широкоплечая блондиночка — девушка-Лиля, которая перепробовала, по-моему, все более-менее приличное мужское население нашей больницы. От чего она там лечилась — я тогда понятия не имел. По-моему никого здоровее, я еще не встречал в своей жизни.
— Привет! Что читаем? — сказала она, придав голосу вопросительную интонацию. У нее было милое симпатичное лицо и приятный с легкой хрипотцой голос.
— Привет. Кастанеду, — как можно естественнее ответил я, показав обложку. — Не увлекаешься?
— Я читала, — охотно поддержала тему Лиля. — Странно это звучит: увлекаться Кастанедой! Он же просто рассказывает о своем пути в жизни, его истории позволяют обычному обывателю задуматься о природе реальности, а при использовании базовых техник открыть для себя совершенно новые аспекты восприятия. Главное не помешаться на его книгах. И так вокруг него когда-то было очень много шума, и даже по сей день пытаются накопать на эту тему чего-нибудь нового, но, по-моему, без всякого толку. Для меня он просто отличный парень, вот и все.
Несмотря на устоявшееся мнение на природу блондинок, она оказалась поразительно начитанной и умной. С ней было действительно интересно разговаривать. Но в тот момент я только и мог, что смотреть на ее эффектную грудь, частично видимую в расщелившемся халате.
— Пойдем на Плешку? — просто и естественно спросила она потом. — А то сидишь тут один, скучаешь… Там и поговорим.
Но поговорить нам так и не удалось. Ни о литературе, ни о природе реальности. А вот открыть новые аспекты восприятия вполне получилось.
Когда я, совершенно измотанный, приполз потом в свою палату, оба Петровича, похоже, уже были в курсе обстоятельств моего отсутствия. Нет, никто меня не искал и не спрашивал, процедур и уколов в этот час не было. Но по заинтересованным взглядам Петровичей и по их странной молчаливости, можно было догадаться о причине. Я ничего не сказал, лег на свое место и уткнулся в Кастанеду. Наконец Николай Петрович не выдержал: