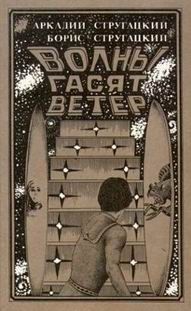Надежда Попова - Ловец человеков
— Ты знаешь, сколько народов и племен приносят жертвы огню? Вода — она способна противостоять пламени и почти равна ему по силе, но никто… или почти никто… не приносит жертв, топя их. Наши предки, отправляя своих умерших воинов на плоту по реке, посылали вслед горящие стрелы. И твои братья — уж они-то знают, что делают, когда обращают в пепел мне подобных… — Он обернулся, и на его лице заплясали отблески разгорающегося в комнате пожара. — Огонь, майстер инквизитор, это самая мощная сила на земле. В нем есть что-то от бога; может, он и сам бог, снизошедший к нам? Ты никогда не думал об этом?
Курт молчал, глядя на горящую лестницу, на проем двери, откуда уже доносилось потрескивание занимающегося дерева и тянуло дымом; Каспар прошагал к другому факелу и, взяв его в руку, остановился.
— Любой обряд жертвоприношения кажется мне чем-то фальшивым в сравнении с преданием огню, — продолжил он тихо, — все это лживо. Это невидимо, говорят нам, но на самом деле просто ничего нет. А огонь забирает жертву зримо, забирает сам, все до последней косточки, если поддержать его пищей. Он живой, как и положено богу. И он никому не служит, с одинаковой беспощадностью, а может, и милосердием, принимая всех — праведных, грешников, врагов и друзей, человека и бессловесную тварь… Есть ли в этом мире хоть что-то способное вселить такой ужас, такой трепет и такую любовь, как огонь, майстер инквизитор?
Пинком растворив еще одну дверь, Каспар широким движением бросил факел в комнату и, замерев на пороге, запрокинул голову, прикрыв глаза и глубоко, с наслаждением, вобрав в себя воздух, словно вдохнул какой-то одному ему слышимый аромат.
— Odor mortis…[67] Это запах смерти, малыш, — произнес он едва слышно; обернулся, озаряемый пламенем с обеих сторон, и широко раскинул руки, будто желая обнять подрагивающую дымку вокруг себя. — Это запах смерти! — повысил голос Каспар. — Чувствуешь? Смерть не пахнет трупами, брошенными на поле боя, или могилой, не пахнет склепом — вот как пахнет смерть; так же, как жизнь, огнем! В огне был создан мир, в огне погибнет; и разве это не прекрасно? Разве он не прекрасен?..
Курт уперся в пол, попытавшись подняться; ослабевшие руки, влажные от крови, соскользнули, ободрав кожу с ладоней, и он упал, задыхаясь от боли в сломанном ребре и ранах. Каспар посмотрел на него сверху вниз с улыбкой, медленно приблизился, пронаблюдав за вторым тщетным усилием, и снова присел на корточки рядом.
— Какая ирония судьбы, верно? — спросил он уже другим тоном, все так же улыбаясь. — Твоим первым сожженным будешь ты сам. Зачитать тебе приговор, чтобы все было по правилам?
Курт сморгнул с ресниц слезы, выступившие от напряжения, боли и все ближе подступающего жара; до кинжала в сапоге было раздражающе близко, и он, понимая всю бесполезность того, что делает, извернулся, вцепившись негнущимися пальцами в рукоять. Каспар легко, словно у ребенка, отнял клинок, глядя на Курта с умилением.
— Упрямый звереныш, — одобрил он, вертя корд в пальцах. — Даже жалко. Только надолго ли тебя хватит? Тебе приходилось бывать на исполнении приговора — хоть раз?.. Это зрелище не забудешь, никогда. Привязанные к столбу, скрученные по рукам и ногам — все равно они пытаются отодвинуться, когда огонь подступает. Наверное, это что-то сидящее глубоко в теле, не в разуме, это неподвластно разуму, говорящему, что выхода уже нет. Иногда, если приговоренного держит не цепь, а веревка, она перегорает, и у человека остаются еще силы выбраться из огня; ведь это тоже бессмысленно, их хватают и бросают обратно, полуобгорелых и ослепших…
Курт попытался встать снова, готовый выть от бессилия, приподнялся, упираясь в пол локтем; Каспар мягко толкнул его ладонью в грудь, опрокинув на пол, и улыбнулся опять.
— Вот и ты так же стараешься избежать своей участи, хотя понимаешь, что это бессмысленно, что у тебя ни шанса; понимаешь, а все же делаешь попытку за попыткой, потому что уже чувствуешь его дыхание. И когда я уйду, ты будешь стараться уползти, из последних сил будешь рваться прочь… Ты ведь сегодня уже прикоснулся к пламени, ты знаешь его силу…
Дышать становилось все тяжелее, в голове пульсировало, словно кто-то сжимал мозг в кулаке, время от времени расслабляя пальцы и снова стискивая, а вместо мыслей бился огонь, сжигая остатки самообладания, лишая сил…
— Вообще, — сказал Каспар, оглядываясь на лестницу, с которой в коридор, как едва сдерживаемые привязью псы, рвались темно-алые клубы, обрамленные смоляным чадом, — ты умираешь от потери крови. И если б не то, что тебя ждет, ты умер бы легко. Смерть эта приятна, спокойна и почти незаметна, словно сон. Но дело в том, что огонь доберется до тебя раньше. Ведь ты понимаешь это, мальчик, верно? Понимаешь. Потому и бледнеешь, не только от ран. Потому в твоих глазах я и вижу сейчас столько ужаса — он так явен, что ты не можешь его скрыть. Но… — Каспар помолчал, глядя задумчиво на его кинжал в своих руках, и посмотрел Курту в глаза. — Но я мог бы избавить тебя от таких страданий. Ты мне нравишься, хотя и служишь Конгрегации, и я могу подарить тебе один-единственный удар, который остановит все это раз и навсегда. Тебе надо лишь попросить.
Пульсация в голове смолкла вмиг, зато громко и глухо бухнуло сердце, и Курт замер, вцепившись взглядом в глаза над собой. Мгновение длились неподвижность и тишина, а потом он медленно посмотрел на клинок в руках пивовара, и тот приподнял его, рассматривая острие.
— Один удар, — повторил Каспар тихо, — и все. Несколько мгновений боли — и пустота. Или — медленная, мучительная, страшная смерть. Выбирай.
Он молчал, неотрывно глядя на лезвие с отражающимися в нем огненными бликами, и Каспар вздохнул:
— Гордость… Понимаю. Это заслуживает уважения. Поэтому дам тебе еще шанс. Заметь, я более милосерден, чем вы, я даю тебе выбор… — Он обернулся на распахнутые двери, озаряющие коридор багровым светом, перевел взгляд вверх и снова посмотрел на Курта: — Когда я уйду, ты будешь уже слишком слаб, чтобы пытаться уползти отсюда. И вскоре огонь из комнат перекинется на балки над тобой, а пламя с лестницы достигнет второй бочки, с маслом, которая стоит вон там. Бочка взорвется, и до тебя долетят горящие капли; они останутся на одежде, вопьются в лицо… глаза… руки… Когда на тебя рухнут горящие балки, ты уже будешь наполовину обгорелым, почти без кожи, ослепшим, воющим от боли куском мяса, но ты все еще будешь жить; удивительно, до чего живуч человек. А ты, как я заметил, вообще крепкий мальчик. Ты будешь жить еще долго… или, точнее, умирать. Неужели гордость стоит всего этого?
Курт закрыл глаза, прерывисто дыша, стиснув зубы, и тихо, чуть слышно самому себе, выдавил: