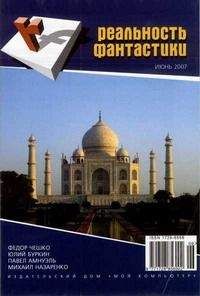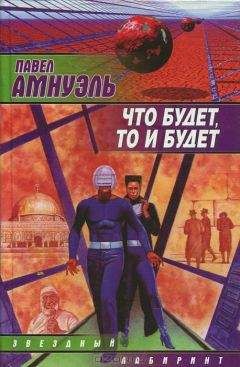Песах Амнуэль - Месть в домино
— Хорошо, — сказал Фридхолм, и мне показалось, что он улыбнулся. Только показалось, конечно, лицо шведа оставалось по-прежнему бесстрастным.
— В некоторых театрах, — сказал я, — и сейчас Ренато стреляет в Ричарда из пистолета. Это театральнее, это неожиданно, но главное — звук выстрела предваряет резкое tutti оркестра, и на слушателя это производит потрясающее впечатление. Верди, знаете ли, был великолепным знатоком театра, и эффект был им, безусловно, продуман, так что реплика в либретто, конечно, не случайна. Но на премьере в руке Ренато оказался не пистолет…
Номер 15 (33). Бал-маскарад
Верди с Джузеппиной поехали к Сомма за полтора часа до начала представления. Композитор был мрачен, Пеппина пыталась отвлечь его от ненужных, по ее мнению, мыслей рассказами о том, как она боялась выходить на публику в первые свои певческие годы. Ей казалось, что в зале нет людей, а в креслах расположилось ужасное многорукое, многоногое и многоголовое существо, готовое поднять трубный рев, едва она раскроет рот и попытается спеть первую ноту. Дебют у нее был во второстепенной партии Заиды в россиниевской «Армиде», и от страха она вступила на полтакта позже, думала, что капельмейстер испепелит ее взглядом, но все обошлось, никто, похоже, и внимания не обратил, а потом все пошло, как по маслу, вот так и сегодня будет, мой Верди, увидишь, публика настроена на успех, это чувствуется, посмотри, сколько народа идет в сторону оперы, и надписей «Viva Verdi» сегодня на стенах больше, чем обычно, и не говори мне, что это не в твою честь, а в честь Виктора-Эммануила…
— Пожалуйста, — прервал Верди монолог Джузеппины, — пожалуйста, помолчи, я это много раз слышал. Не станешь же ты мне доказывать, что декорации прекрасны, а у госпожи Жюльен-Дежан хорошо звучит голос. Отвратительные декорации, хуже были только в «Набукко», когда Мерелли вытащил из склада все, что оставалось от постановки какой-то оперы Спонтини, я даже названия не помню, такое это было убожество.
Обидевшись, Джузеппина замолчала и не проронила ни слова даже тогда, когда синьор Сомма сел в карету, аккуратно поджав ноги, чтобы не задеть ее широкое платье, и поцеловал руку со словами приветствия и уважения.
— Вы все еще намерены сохранять инкогнито, дорогой Сомма? — поинтересовался Верди. — В театре будет немало людей, знающих вас в лицо. Вы же не станете надевать полумаску, как герои этой несчастной оперы?
— Нет, маэстро, — ответил Сомма, надвинув на лоб высокую шляпу. — Я сяду в глубине ложи и не покажу свой нос даже в антрактах.
— Ну и глупо, — раздраженно сказал Верди. — Если опера провалится, даю вам слово, синьор Антонио, что непременно заставлю вас выйти к рампе и покаяться в тех жутких стихах, которые…
— Недавно вы называли мои стихи хорошими!
— Недавно, — поправил Верди, — я назвал их великолепными, прекрасными, вдохновляющими. Но то было три дня назад, а сегодня… Сегодня у меня предчувствие, что нас освистают, как «Травиату» в вашей любимой Венеции.
— Ну… — улыбнулся Сомма. — Если после провала последует такой же триумф, какой достался на долю этой оперы, я, знаете ли, согласен выслушать сегодня бурю негодования.
Верди покачал головой. Впереди уже видна была толпа, запрудившая площадь перед театром. Кучер, как было приказано, свернул в переулок и остановил лошадь перед небольшой, почти невидимой в наступившей темноте, дверью в складские помещения.
— Надеюсь, — проговорил Сомма, спрыгивая на мокрую мостовую, — вам, маэстро, не позволят после спектакля возвращатья в отель этим путем.
О том, что маэстро в театре, слух прошел незамедлительно, и едва Верди и Джузеппина появились в ложе, зрители, заполнившие первые ряды партера, поднялись с мест и устроили овацию. Верди морщился, недовольно кряхтел, но все-таки коротко поклонился и сел так, чтобы хорошо видеть сцену и оркестр, но самому оставаться невидимым для публики. Сомма поставил свой стул у двери, оркестр он не видел вообще, но зато и его никто не мог увидеть в глубине слабо освещенной ложи.
Заглянул Яковаччи, поинтересовался, все ли в порядке, заверил, что сегодня будет лучший спектакль карнавального сезона, выслушал угрюмое вердиевское «посмотрим, посмотрим» и удалился, когда оркестр заиграл вступление.
Джузеппина положила свою ладонь на руку Верди, и он ответил ей благодарным взглядом.
— Это твоя лучшая опера, — произнесла Джузеппина едва слышно, — все будет хорошо, вот увидишь.
Но все не могло быть хорошо. Яковаччи поскупился даже на колонны в зале приемов губернатора. Конечно, во времена Вильгельма Оранского жизнь в американских колониях была суровой, но вся суть… пусть не вся, но главная суть этой жизненной драмы в том и состояла, что американцы тех лет еще не отряхнули со своих ног прах старой, одряхлевшей Европы, они жили в Новом мире, но упрямо держались за старые порядки, и именно это должен был услышать всякий — да, прежде всего услышать: вот мрачно вступил хор заговорщиков, это были американские заговорщики, носившие за поясом не изящные шпаги, а угрюмые пистолеты, но думали они еще по-европейски, и заговоры свои строили на европейский манер, и пели так, как пел бы какой-нибудь Спарафучиле.
Ричард — это, по сути, Герцог Мантуанский, облагороженный не европейской распущенностью, но пуританским воспитанием. Отличие — внутри, в глубине, в интонации, а не во внешнем. Яковаччи говорил о деньгах, импресарио всегда стеснены в средствах, жизнь у оперных театров действительно тяжелая, но разве во времена Паизиелло или даже молодого Россини она была легче? Но тогда ведь находили средства для замечательных декораций, порой гораздо более замечательных, чем музыка, которую они иллюстрировали.
Вышел Фраскини, и Верди удивился тому, насколько невыразительно звучал сегодня его голос. Еще вчера в голосе Фраскини была светлая звонкость, летучесть, ради которой маэстро готов был простить ему вялые, невыразительные нижние ноты. Сейчас и верха звучали так же плохо, будто певец не то чтобы не распелся перед спектаклем, но вообще не раскрывал рта после генеральной репетиции. Верди поморщился и отодвинул стул в глубину ложи.
Аплодисменты после первого акта быстро стихли — публика ждала обозначенного в программке эффектного зрелища: сцены гадания в убежище Ульрики. Верди представлял, какое всех ждало разочарование, так оно и получилось — вместо загадочной пещеры, в которой плавали бы неясные силуэты загробных духов, на сцене было нечто, напоминавшее заброшенную виллу, колдунья восседала на огромном камне, в котором дотошный театрал мог узнать скалу из последней постановки вагнеровского «Тангейзера». Верди не видел этой оперы и мог бы подумать, что камень соорудили в театральной мастерской специально для премьеры, но сам Яковаччи раскрыл производственный секрет — жалуясь маэстро на перманентную бедность и долги, импресарио подробно описал, что именно и откуда пришлось позаимствовать, чтобы сцена не выглядела совсем пустой.