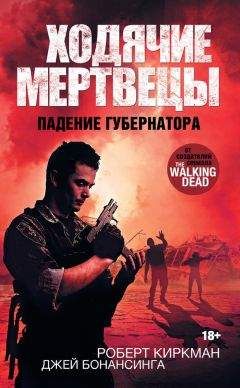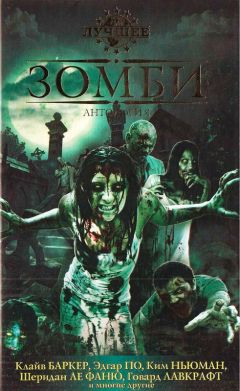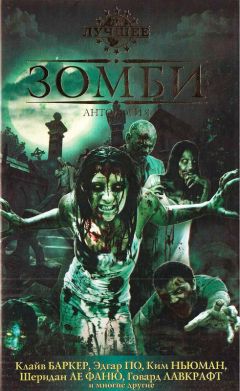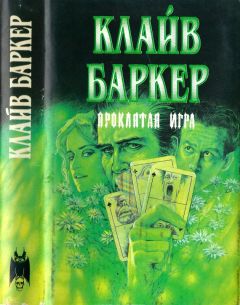Клайв Баркер - Зомби
Я продолжал рыбачить в Карасевом омуте, как мы с Кэти его окрестили. Маленькие карасики все еще набрасывались на хлебную корку, но, по мере того как лето перешло в сентябрь, в мои поездки подмешивалась изрядная доля уныния. Кэти уступила давлению родни и согласилась поехать с семьей на год в Массачусетс перед тем, как поступать в Саутгемптон. Когда решение было принято, мы всякий раз лили слезы при встрече. Мы отправлялись на долгие прогулки по Кряжу и часами сидели на громадных плоских камнях, болтая ногами в пустоте. Порой я краем глаза замечал движение и знал, что плечи Кэти сотрясаются от рыданий. Тут мое лицо морщилось, словно сдувшийся воздушный шарик, но перед этим я непременно обнимал ее за плечи и прижимал к себе. Пусть она знает, что я тоже плачу, но не видит этого. Мы бродили по берегу реки, протекавшей южнее Кряжа, наша беседа перекидывалась с одной темы на другую; мы вспоминали события прошедшего лета, говорили о стремлениях и желаниях. Мы будем поддерживать связь, обещали мы друг другу — конечно, Кэти обещала писать каждый день, — и в конечном счете год — это не так уж и много.
Но тогда мы оба знали, что год — это очень долго.
Как-то мы сидели и смотрели, как старички играют в шары на лужайке позади дома моих родителей. Кэти сказала:
— Ты найдешь другую.
Я потерял самообладание, бросился на землю и зарыдал. И никак не мог успокоиться даже тогда, когда старички запаковали шары в маленькие коричневые кожаные кейсы и над темнеющей лужайкой пронеслись их прощальные возгласы. Конечно же, я не собирался искать никакую другую, но само предположение всколыхнуло призраков, смотреть в лицо которым я не отваживался: скорее какой-нибудь красавчик — студент-первокурсник очарует Кэти и она никогда не вернется ко мне. Я представил себе, как она возвращается сюда толстой седовласой старушенцией, чтобы поболтать о воспоминаниях молодости со славным седым старичком, в которого превратился я.
Не только о потерянной любви скорбел я. Я тоже уезжал отсюда и тоже собирался взрослеть. Лето, которым мы наслаждались с Кэти, было последним на этом отрезке моей жизни. Никогда мне больше не вернуть жарких полдней, никогда не резвиться взбалмошным буйным карасиком. Карасевый омут сделался лишь воспоминанием еще до окончания лета.
Я посмотрел на зажатую между пальцев фотографию и почувствовал, как грудь стискивает холодный обруч.
Я так и не понял, что заставило меня сделать этот снимок: какой-то глубинный инстинкт, потребность ухватить последнее мерцание оплывшей свечи перед тем, как равнодушный сквозняк затушит светлый огонек. Какое-то необъяснимое понуждение заставило меня тогда рыться в корзине с рыболовными снастями в поисках фотоаппарата.
Я в последний раз приехал к Карасевому омуту. В середине сентября рыбы уже не были так прожорливы и активны, как летом. Я пытался сконцентрироваться на рыбалке, но мысли мои витали далеко. Целый день взлетали самолеты, и хотя обычно я практически не обращал на них внимания, сегодня от постоянного шума у меня разболелась голова. Я уже хотел было собираться и ехать домой, когда случилось это.
Я не спускал глаз с только что взлетевшего самолета сначала потому, что гул двигателей звучал как-то необычно, а затем потому, что он резко накренился и внезапно потерял высоту. Пилот пытался выправить нос так, чтобы самолет смог снова сесть. Послышался взрыв, и из одного ревущего двигателя вырвались языки пламени. Я вскочил на трясущиеся ноги, мне сделалось дурно. В тот момент мне было страшно, как никогда, ужас приковал меня к месту. Сотни людей вот-вот умрут, я стану свидетелем их гибели, но поделать ничего не могу. Не знаю, выдумал ли я это позже или действительно видел лица в иллюминаторах, идущих вдоль фюзеляжа. Самолет падал на Карасевый омут, только это заставило меня сдвинуться с места. Но прежде чем со всех ног броситься прочь, я сунул руку в корзину и достал фотоаппарат. Навел объектив на падающий самолет и сделал один снимок. Потом побежал.
К счастью, удара я не видел, потому что уже был у подножия откоса, когда самолет упал. Увидел я чудовищный огненный шар, который победоносным цветком взметнулся над деревьями, и, конечно же, я его почувствовал. Меня швырнуло на землю, я ударился головой и потерял сознание. Когда я пришел в себя, вокруг меня сновали люди, кто-то откинул мне с глаз челку и спросил, вижу ли я что-нибудь. Но я только кричал:
— Это тот? Тот, на котором была она?
Люди не понимали, о чем это я. Позже я узнал, что она действительно была на борту рухнувшего лайнера. Не случайно я был у Карасевого омута в день, когда она улетала в Массачусетс. Где еще мне было быть? Куда идти? Кое-что происходит само собой, без нашего выбора. Я должен был быть именно там. Я не знал, на каком самолете полетит она, но зато был там, совсем рядом с ней, до последней минуты. Ведь это лучше, к тому же менее мучительно, чем прощание в самом здании аэропорта.
Самолет рухнул в Карасевый омут, все пассажиры и команда погибли, как передали после. Еще до крушения огонь охватил салон. Из-за пожара и взрыва тел не осталось. На сей раз газеты обошлись без деталей. Приняли решение не осушать омут и поставить памятник, оставить все как было. Расследователи крушения так и не установили причину аварии, но вероятность бомбы исключили. В прессе появились фотографии места падения самолета, но снимков падающего лайнера не было.
Пока я сидел на травянистом холмике и разглаживал пальцами фотографию, небеса постепенно темнели. В мерцании уходящего дня я погрузился в созерцание снимка, как делал бесчисленное количество раз. Я никогда не показывал его ни одной живой душе. Не только потому, что тоска была моя собственная и глубоко личная. Я чувствовал, что лишним будет чужое вторжение в жизни — жизни, прожитые в самые последние мгновения, — всех 326 пассажиров и команды. Снова и снова я задумывался, не отнести ли фотографию в газету. Мне казалось, что в снимке заключена великая сила, но мне никак не удавалось разобрать, была ли она силой во благо и во исцеление или же приведет к худшему. Может, фото нанесет дополнительный удар пережившим утрату? Я решил не рисковать и оставил снимок у себя. Но я знал, что придет время, когда я отпущу прошлое.
Этот день настал. Я сидел подле омута, а между деревьев, словно паутина, сгущалась темнота. Ждала поверхность воды, сейчас темная, словно бассейн машинного масла. В последний раз взглянув на фотографию: фюзеляж словно сигара, пунктир крохотных иллюминаторов, застывший ужас на лицах, в последний раз глядящих на мир, языки пламени, — я осторожно опустил ее на поверхность воды. Я провожал ее взглядом, пока карточка плыла к центру омута, где вода чуть затекла на нее, словно пробуя на вкус, а потом поглотила фото.