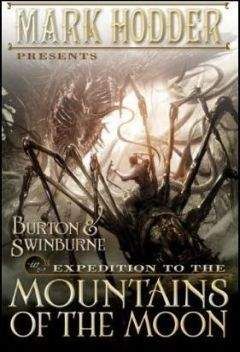Марк Ходдер - Таинственная история заводного человека
Войдя в комнату, Бёртон и Суинберн увидели его стоящим в центре и рассуждающим о новинках технологистов:
— …и вот они взяли представителей вида Scarabaeus sacer,[114] — говорил он, — более известного как скарабей, а евгеники увеличили их до размера молочного фургона!
— Ни хрена себе! — воскликнул Брэдлаф.
— Как только жук вырастает, — продолжал Мильнс, — технологисты убивают бедное насекомое, вычищают его внутренности и крепят спереди сиденье с рычагами управления, а сзади — скамью и мотор. Таким образом, человек садится в жука, сажает назад всю свою чертову семью и едет куда хочет!
— Разрази меня гром, — воскликнул Мюррей, — ведь это же еще один вид транспорта!
— Нет, дорогой мой, — возразил Мильнс, — ты не совсем понял, в чем дело! Это не просто вид транспорта — это вид насекомых, притом священных для древних египтян! Евгеники выращивают их на фермах, а потом сразу убивают, безо всяких там «с вашего разрешения», — и только ради их панциря. Особая наглость здесь в том, что технологисты назвали эту машину по-немецки: «Фольксваген», то есть народный фургон. Но ведь это же не фургон — это жук! Живое создание, которое люди безжалостно используют в своих целях. Это святотатство!
— Интересно: ты бранишь ученых за эксплуатацию жуков, тогда как большая часть населения Лондона бунтует из-за эксплуатации рабочих аристократами, — заметил Бёртон. — Или, по-твоему, рабочие ничем не лучше жуков?
— Ричард, — воскликнул Мильнс, обернувшись к гостям, — как приятно видеть тебя! Сколько же тебя не было? Но, клянусь святым Иаковом, почему твое чертово лицо в крови? Неужели очередная потасовка? Или, может быть, ты пьян? Привет, Суинберн!
— Мы оба абсолютно трезвые.
— Причем у меня небольшое похмелье, — уточнил поэт.
— Бедняги! Хант, старая кляча, приготовь-ка этим добрым джентльменам выпить, да побольше! В медицинских целях! Мюррей, будь другом, принеси таз с водой.
Бёртон и Суинберн упали в большие кожаные кресла, с благодарностью приняв предложенные бокалы.
— Что стряслось? — спросил Бендиш. — Неужели ты наткнулся на толпу рабочих, как Брэбрук?
— А что с Брэбруком?
— Получил лопатой по голове. Проходивший мимо уборщик ни с того ни с сего напал на него, безо всякой причины.
— Он не слишком пострадал, — добавил Брэдлаф: — легкая контузия и неприятная рана на лбу, но он будет на ногах через пару дней.
— Бедный старина Брэбрук! — воскликнул Суинберн.
— Вы тоже оказались в самой гуще, не так ли? — спросил Мильнс.
— Похоже на то, — ответил Бёртон. — Мы были в Уголке ораторов, когда началась потасовка.
— Ага, — радостно воскликнул Бендиш, — так, значит, это началось там, верно? Неужели всех спровоцировал юный Суинберн, выступив с речью?
— Нет, не Суинберн. Это был Претендент Тичборн.
— Бог мой, — воскликнул Мильнс: — определенно, этот тип наступил на осиное гнездо!
— Да, притом он продолжает его топтать. Мы сумели выбраться оттуда, но потом, по пути в клуб, на нас напала какая-то шлюха.
Все расхохотались.
— Но, конечно, бизон Бёртон не дал себя избить?
— Уверяю тебя, мне было не до смеха! И давай без «бизона», если не возражаешь.
— Она почти обезумела, — перебил их Суинберн, — и хлестала нас кнутами! — Он усмехнулся и вздрогнул от удовольствия.
— Как же тебе удалось вывести ее из себя, мой мальчик? — полюбопытствовал Мильнс.
— Держу пари: попользовался бедной девочкой — и не дал даже шиллинга! — гоготнул Бендиш.
— Ничего подобного, — буркнул Бёртон, — мы ехали сюда, и нас схватили прямо посреди улицы, безо всякого повода.
— Грязные люмпены сошли с ума! — отрезал Мюррей, только что вошедший в комнату с тазом горячей воды в руках и с белыми полотенцами на локтях. — Всё это дело рук Претендента Тичборна.
— Мильнс только что говорил об этом, — согласился Брэдлаф.
— Претендент стал какой-то марионеткой, — продолжал Мюррей, — для низших классов он воплощает всё плохое в аристократах и всё хорошее в рабочих, притом в весьма утрированной форме. Явный абсурд!.. На, оботри кровь с лица: ты ужасно выглядишь!
— Мне кажется, — сказал Бёртон, — что это чудище не набрало бы такой силы, если бы общество было против. Генри, налей еще стакан портвейна, если тебе нетрудно: первый я проглотил залпом и не распробовал. — Бёртон взял полотенце, смочил его уголок в воде и протер лицо. Потом он взглянул на Мильнса: — На самом деле, мы здесь как раз из-за Претендента. Каким-то образом он обзавелся телохранителями из «развратников». Ты не знаешь почему?
— Неужели? — удивился Мильнс. — Мне это кажется очень странным.
— Мне тоже. А что вообще поделывают «развратники»? И кто теперь их новый предводитель?
— Хм-м, боюсь, я знаю довольно мало… Секта окружила себя завесой секретности: до сих пор она никогда не была настолько законспирированной. Насколько я знаю, их новый предводитель русский, и прибыл он в начале февраля. Кто он и где остановился — на эти вопросы у меня нет ответов.
— Он? Или она? — уточнил Бёртон.
— Не могу сказать… Женщина? Это кажется невероятным. Но одно я знаю точно: с тех пор как появился этот таинственный лидер (неизвестного нам пола), «развратники» стали устраивать спиритические сеансы.
— А вот это уже интересно! С кем же из покойников они пытаются пообщаться? Быть может, с Лоуренсом Олифантом? Или с Генри Бересфордом?[115]
— Не знаю, Ричард, но если они и в самом деле беседуют с усопшими, то, скорее всего, не с их бывшими предводителями.
— Почему?
— Потому что «развратники», которые были действительно близки к Олифанту и «Безумному маркизу»,[116] в последние месяцы покидают секту: новый режим усердно избавляется от сторонников старого.
— А кто близок к новому предводителю? Ты можешь назвать имена?
Мильнс на мгновение задумался, потом пожал плечами:
— Я бы помог тебе, Ричард, но я не знаю никого из этой новой толпы.
— А нет ли там парня по имени Бойл или Фойл? — спросил Суинберн. — Такой высокий, сутулый, с длинной бородой и в очках с проволочной оправой.
Мильнс покачал головой:
— Не припомню такого.
— Может быть, ты имеешь в виду Дойл? — спросил Брэдлаф.
— Не знаю. А что, похож?
— Под описание подходит, и он, несомненно, «развратник». Он был на вечеринке у меня дома несколько месяцев тому назад. Прямо перед Рождеством. И ты там был, пьяный в стельку. Правда, и я тоже, если откровенно.