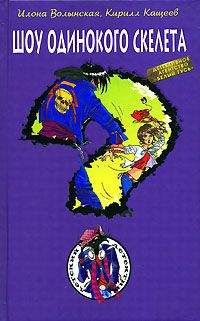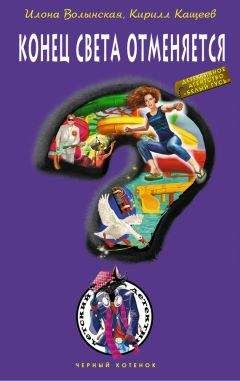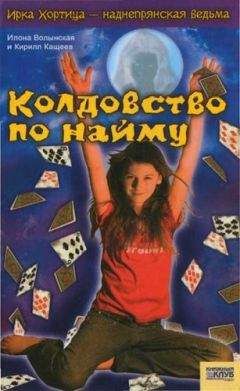Князь мертвецов (СИ) - Волынская Илона
Ингвар посмотрел на Митю снисходительно, и даже сверху вниз:
- Я починил ваш автоматон, Митя. И Зиночкин тоже.
- То есть ... как?
- А так! Вы сделали то, чего я от вас никак не ожидал: защитили невиновных оборотней, которых даже я обвинял, и спасли девушек в гимназии. Я решил, что сделаю то, чего не ждете вы. У вас же завтра ... - Ингвар покосился на темноту за окном и уточнил. - Почитай, уже нынче именины, верно?
- На Дмитрия Ростовского, я же говорил, - начал Митя. Хотя нет, он это альву говорил. И зачем-то пустился в объяснения. - Родился-то я тремя днями позже, тридцать первого октября, но там в святках Козьма с Дамианом, вот родители и выбрали, а то мучился бы, как тот призрак петербургского чиновника у Гоголя, что шинели сдергивал25. А мне сие неприлично: и как сыну Кровной княжны и как сыну полицейского, - и он наконец выпалил. - Почему вы раньше не сказали?
- Ждал, пока вы меня попросите. Просто попросить, Митя. Неплохо бы вам этому научиться, вместо того, чтоб заключать тупейшие пари! Но избавить вас от невыносимой самоуверенности будет благим деянием, - германец почти брезгливо протянул Мите руку. - Покажите мне вашу ведьму, и я докажу, что все ее фокусы - не больше, чем фокусы! Мошенничество и ловкость рук. А вы, - он на мгновение задумался и тут же его губы скривила улыбка. - Вы скажете правду! Что вы все выдумали, и никакой не Истинный Князь!
- Так правду или что не Истинный? - принимая протянутую ему руку, поинтересовался Митя.
— Вот вы... - Ингвар отшвырнул его ладонь. - Так и норовите весь мой мир перевернуть. Но с ведьмой у вас не выйдет, слышите!
- Слышу, слышу. Для вас я другое условие придумаю, раз автоматон вы уже починили. - Ингвар уставился на него укоризненно, а Митя растянул губы в издевательской улыбке. - Идите спать, Ингвар, следующей ночью не придется.
Ингвар резко поднялся и зажав трость подмышкой, направился к двери:
— Вот всегда я знал, что спорят только дураки и мерзавцы. Мерзавцы - знают, а потому спорят; а дураки - не знают, но все равно спорят. Не думал, что примерю на себя роль мерзавца!
- Ингвар, - негромко окликнул его Митя.
Ингвар обернулся - и по прерывистому вдоху и вновь залившей лицо германца бледности Митя понял, что Истинная сущность снова выглянула наружу, превращая лицо - в череп, а глаза - в тускло светящиеся провалы:
- На будущее запомните: роль мерзавца я всегда оставляю за собой.
Глава 26. Прогулка по еврейскому кварталу
Дзонг-дзонг-дзонг! - стальные копыта автоматона цокали по брусчатке мостовой. Наново отполированные Ингваром бока паро-коня сверкали в лучах заходящего солнца. Сам Митя, в перелицованном старым портным сюртуке с кожаными вставками, отлично гармонирующим с автоматонным шлемом и очками-гоглами, гордо покачивался в седле. Белоснежные манжеты сорочки почти-от-«Калина»-немного-от-«Генри»-и-еще-чуть-чуть-от-старого-Якова-Альшванга прятались под раструбами автоматонных перчаток, и он чувствовал, наконец, как устремляются ему вслед взгляды прохожих: то одобрительные, иногда даже восторженные, а то откровенно завистливые. В этих взглядах можно было купаться, ими можно было откровенно наслаждаться - особенно почти-ненавистью, с которой на него глазели сперва парочка молодых улан, а потом и компания гимназистов на углу. Но наслаждаться не получалось.
За завтраком Митя сидел вдвоем с Ингваром. Ни отец, ни тетушка к столу не вышли, а вбежавшая в столовую Ниночка была немедленно отловлена и уведена примчавшейся следом Маняшей. Девочка пару раз оглянулась на накрытый стол с такой тоской, что Ингвар немедленно застыдился и уткнулся взглядом в тарелку. Митя с невозмутимым видом принялся намазывать еще горячую, только из печи, булку, ледяным маслом.
- И как в вас еда-то лезет? - Ингвар нервно оглядел ряд пустых стульев.
- Мне мертвяки аппетит не отбили, а прекратить есть от тетушкиной излишней живости, было бы и вовсе глупо, - принимаясь за чай, парировал Митя.
Дальше они трапезничали в полном молчании и так же в молчании разошлись по комнатам. К чаю отец еще не вернулся со службы. В доме повисла настороженная, хрупкая тишина, лишь чувствовалось едва слышное живое дыхание за каждой дверью, будто обитатели комнат то ли прятались, то ли наоборот - сидели в засаде. Прислуга, и та сновала по лестницам бесшумно, а стук от ручки полового ведра в руках Маняши прокатился по дому будоражащим звоном. Вот на этом звоне Митя и решил, что с него довольно: оделся со всей возможной тщательностью в старые-новые вещи, и, невольно ступая на носки, чтоб не нарушить затаенную тишину, спустился по черной лестнице. Вывел паро-коня из конюшни - после Ингваровой заботы его вороненый двигался плавно, а пыхтел весьма деликатно. И выехал в город.
«Если так рассудить, то ссора вышла весьма своевременно. Может, моего отсутствия даже и не заметят. А заметят, так пусть думают, что это у меня манера такая - при любом нервном потрясении из дому сбегать. Тонкость чувств, то-сё ...».
Митя попытался порадоваться столь удачному случаю, но радоваться не получалось, а огорчаться Митя себе запретил. Он всегда знал, что значит для отца мало, или даже вовсе ничего. А стоило понадеяться, что это не так, как надежда оказалась жестоко развеяна: отец сразу согласился считать его незаконным. Недорого стоили ни его так называемая любовь к сыну, ни к покойной жене. Сразу поверил - потому что так ему проще. Можно о Мите не вспоминать, а думать только о своей разлюбезной службе. А Митю, на радость тетушке с Ниночкой, отправить к Белозерским. И Митя не огорчился бы даже, вот ни чуточки, так ведь убьют же Белозерские, как есть прикончат, во исполнение воли Великой Бабушки Рода! И податься ему некуда, куда ни кинь ...
- Эй-эй, Дмитрий! Попридержите-ка паро-коней!
Скорей насмешливый, чем испуганный оклик заставил Митю дернуть рычаг автоматона даже раньше, чем вынырнуть из печальных раздумий. Он опустил глаза - и только многолетние усилия по воспитанию в себе светского человека позволили удержать на лице достойное невозмутимо-приветливое выражение.
Глядеть на младшего Потапенко было неприятно. Еще недавно здоровый, как медведь, то есть, как ему и положено, и ярко-щеголеватый, как настоящий казак, теперь хорунжий отощал и поистрепался, будто обыкновенный, лесной топтыгин после зимней спячки. Щеки его болезненно ввалились, а красные воспаленные глаза тяжело моргали. На Митю он глядел, прищурившись и то и дело облизывая пересохшие губы, а еще от него тянуло застарелым перегаром.
- Если батьку моего встретите, не кажить, шо меня видели, - хрипло пробормотал Потапенко, одергивая расхристанный мундир и безуспешно пытаясь заправить сбившуюся комом несвежую сорочку. - А вы куда эдаким франтом?
- Да так, - Митя с трудом удержался, чтоб не попросить младшего Потапенко об ответной услуге: если хорунжий встретит Митиного отца, так тоже ... не говорить.
Но он же не наивный казак-оборотень, дитя степей и лесов, а циничный воспитанник светских салонов и точно знает - о чем просят не говорить, о том и рассказывают в первую очередь. Без большой нужды лучше и вовсе ничего не скрывать - и Митя сказал чистую правду. - В модный дом еду, с портным моим надо бы повидаться. А вы не хотите ... - Митя замер с приоткрытым ртом, в последний момент не иначе, как чудом удержавшись от предложения что-нибудь передать призраку Фиры Фарбер. А ведь один из его давних страхов начинает сбываться – он уже путает мир живых и мертвых. Что дальше будет?
- Ничего я не хочу, -за собственными душевными терзаниями Потапенко не обратил внимания на Митину оплошность. - А жиденка вашего, Йоськи, погани ушастой, в модном доме нету. К синагоге ихней езжайте! Все там, суббота у них, тварей.
- Вы антисемит, хорунжий? - искренне удивился Митя.
- А как же! - охотно согласился Потапенко. - Я их, жидов, ненавижу! Я ж Фирочку, ясочку мою, просил: крестись - и поженимся! На все бы плюнул: на батьку, на товарищей боевых, на чин казачий, в отставку бы ушел, ничего мне, кроме нее, не надобно! Я просил, я умолял, а она - ни в какую. Люблю тебя, говорила, а предательницей народа своего быть не хочу! Если б, говорила, нашим хоть хорошо в империи жилось, тогда еще ладно, можно было, ради любви-то. А так, все равно что на могилы предков плюнуть. Ежели такая как есть - плоха, так и не надобно ничего, говорила. А только не поженили бы нас, пока она иудейкой оставалась, ни за что б не поженили! Это все они Фирочку, ясочку мою, настраивали да отговаривали, особливо Йоська тот ушастый, вот уж ни альвам, ни людям. А она меня любила! Любила! А они ... - он безнадежно махнул рукой и сгорбившись и подволакивая ноги, побрел прочь. - Жидовня поганая, шоб им всем сдохнуть без покаяния.