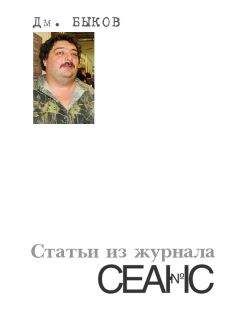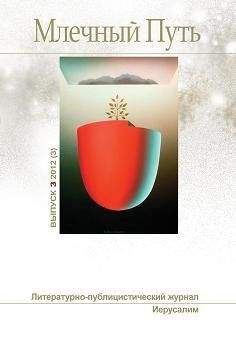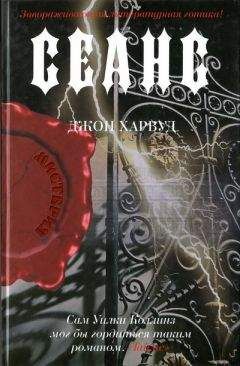Александра Свида - Паника в Борках
Опять непонятная сила повлекла его к ней, но не сел, а упал на колени рядом с креслом, беспомощно опустив голову на его поручни. Ласковая рука обняла его и, осеняя крестом, протягивает ему просфору. С широко раскрытыми глазами отшатнулся от нее несчастный: я недостоин… нет… кому-нибудь другому — вырвалось из его запекшихся губ.
— Для благодати Божьей нет недостойных, один раскаявшийся грешник дает больше радости, чем десять праведных!
— На мне кровь и проклятие!
— Смотри на Христа; его кровь смыла наши грехи. А проклятие? Кто наложил его на тебя?
— Бог и судьба!
— Бог не налагает проклятия, а судьба? Почему считаешь свою — тяжелее других?
Надрывающий душу хохот огласил келью.
— Святая душа, что можешь ты знать о жизни?
— Я не родилась в келье, и не радость или потребность подвига привели меня сюда, — прозвучал тихий кроткий ответ. — Кто проклял тебя, отец или мать?
— Нет, он, кого я убил самосудом, и с него начался ряд преступлений и страшных смертей!
С землисто-серого лица смотрели на инокиню полные безумного ужаса глаза.
— Кто ты?
— Пестровский крестьянин Влас Корунов, — прозвучал бессознательный ответ.
Слабая, больная улыбка пробежала по лицу инокини.
— Вот видишь, судьба свела нас — почти земляков. Я из Красноболотова! — и, тихо наклонив его голову, прикрыла ее иноческой мантией. Под нею раздались тяжелые мужские рыдания. Чуть прижимая рукой прикрытую голову, устремила инокиня свои полные слез глаза на лик распятого Спасителя.
— Боже милостивый, спаси, облегчи страждущего, и если нужна искупительная жертва, пусть я буду ею за него, — летела к Богу пламенная молитва из уст стоящей на краю могилы игуменьи…
Тише и тише рыдания… И вдруг полилась исповедь; от жутких слов ее, казалось, померк яркий солнечный свет в келье. Чудится, как среди ночной тьмы крадется к хлевушку Гнедка согнутая фигура конокрада… Из хаты выбегает Влас… погоня… и все подробности нечеловеческого избиения узнанного Григория. Запахом теплой крови обдало лицо игуменьи, знакомый голос просит пощады, тяжело стонет, харкает кровью… трещат ломающиеся кости, кровоточат проткнутые глаза… Как мертвая опустилась, осунулась в глубоком кресле, закрылись глаза на безжизненном лице, рука соскользнула с головы несчастного, чей крест минутой раньше она самоотверженно просила Бога переложить на нее.
Исповедь лилась и лилась. Промелькнули ограбленный и брошенный в тайге, избитая до смерти Ариша, оставленный на произвол судьбы Василий, страшная кончина новобрачных, тихая смерть второй незаконной жены под горой благоухающих роз и… тишина!
Молчит облегченный исповедью Влас; нет признаков жизни и в монахине. Но вот поднялись ее отяжелевшие веки, слепые от слез глаза устремились на лик Распятого, в груди же ни молитвы, ни жизни…
Трещит масло в лампаде; с жужжаньем бьется об оконное стекло муха. В мертвой тишине кельи наступает суд Бога.
Задрожал от непонятного страха накрытый мантией Влас. Чувствует, будто келья полна людей. Слышит шепот чьей-то молитвы. Чудится ему шелест крыльев над головой монахини. Мать-игуменья сидит, не шелохнется, она тоже чувствует прилет неземных гостей. Из ее немигающих глаз ручьем льются слезы. Нет сил на прощение, просит помощи у Распятого.
Что это? Взмахи нежных крыльев освежают ее разгоряченную голову. Видит ясно Григория, обнимающего подножие креста, рядом с ним тени: Сергея, Зои, обеих умерших жен и брошенного в тайге Потехина. И на всех, разлетаясь брызгами из-под тернового венца, капает искупительная кровь. Тяжело, хрипло вздохнула монахиня, слабой рукой подняла с головы Власа покрывало, и указывая на распятого Христа, прошептала:
— Ныне отпущаеши, Владыко, по глаголу Твоему рабов Твоих с миром. — Обвитая четками рука осенила его крестом со словами: «Иди в мир, Ипполит Потехин, к труж-дающимся и обремененным».
В эту же ночь осиротела обитель, и почти одновременно с отлетевшей душой игуменьи в ночной тишине далеко по воздуху поплыли двенадцать раздельных, тягучих ударов большого колокола. Монастырь, будя лес и прилегающее село, посылал скорбную весть о своем сиротстве.
Глава XXXVII Таинственное исчезновение
Ясное раннее утро; ласковое солнышко снопами лучей позолотило верхушки бора и весело играет на прогалинках леса. Боковые лучи заглянули в замаскированное с наружной стороны окно Наташиной комнаты и побежали веселыми зайчиками по стене, подушке и лицу молодой девушки. Один из них добежал до уха и шепчет:
— Что же ты не идешь к ручейку умыться? Почему проспала восход солнца? За что разгневалась на пташек и зверят лесных и не хочешь с ними поздороваться? Все тебя ждут, все тебя любят, все уже по тебе соскучились. Слышишь, как приветливо шелестит под твоим окном бело-стволая кудрявая березка? Как укоризненно качают своими верхушками не дождавшиеся привета сосны? Как удивленно заглядывает в твои окна резвая белка? Как, пользуясь твоим отсутствием, прожорливые дятлы своим тука-нием заглушают пение птиц? Взгляни, как печально поникли головками тщетно ждавшие поливки цветы в палисаднике.
Вздрогнула Наташа. Вспомнила, что сегодня она проводит последний день в лесу, где она выросла и сжилась с природой.
Сегодня ее увезут… Куда? Что ждет ее впереди?
Почему с такой безграничной грустью взглянул на нее младший незнакомец? Почему, под ласковым прикосновением руки старика, сжимается у нее сердце?
Уж не приедет ли за ней та золотая карета с лакеями на запятках, о которой в детстве так часто говорила ей мать? Нет! Время сказок прошло! Одинокая, но счастливая, беззаботная жизнь в лесу кончена! Что даст ей завтрашний день и будет ли он к ней милостив?
— Послушай-ка, мама!
— Что, моя милая?
— Ты говорила, что у тебя есть настойка из заповедных трав, которая даже умирающему может продлить жизнь, а больному дает силу: дай мне ее; я хочу попрощаться с лесом!
Молча достала старуха пузырек и, накапав в воду несколько капель, подала Наташе.
— Только не уходи далеко, — сказала она поднявшейся с постели девушке.
От дерева к дереву, с полянки на полянку переходит Наташа. Не узнают ее ни птицы, ни звери, ни даже само красное солнышко.
Безысходной тоской покрылось прелестное юное личико, из голубых глаз жемчужными нитями льются слезы. Вот обхватила молодую березку, — сама такая же белая, нежная, стройная, а с дрожащих уст полился ряд нежных прощальных слов..
— Прощай, мой лес… Я не забуду твоей ласки и привета. Не разучусь понимать твоего шелеста, шума и шороха. Мне никогда не будет страшна твоя таинственная гуща. Не забуду твоих ласковых встреч, не умолкнет в ушах колыбельная песня, которой убаюкивал ты меня, малютку, подвешенную в люльке к твоим могучим ветвям. О, мой лес дорогой! Заменят ли мне тебя люди? Прощай, прощай! Но не забывай меня, как не забудет тебя влекомая куда-то судьбой Наташа!