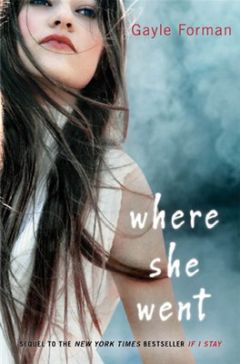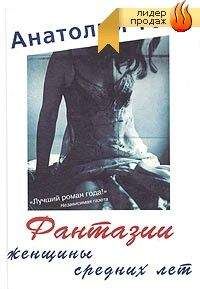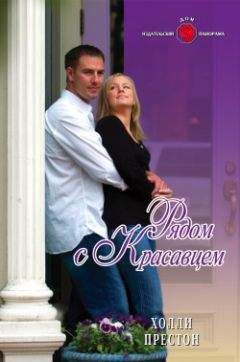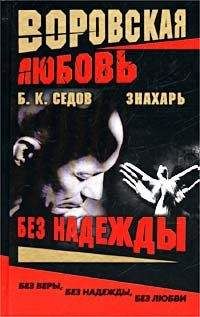Дин Кунц - Самый темный вечер в году
Яркие слезы стоят в глазах Пигти, мокрые щеки сверкают.
— Убери все.
— Хорошо.
Лунная девушка берет со стола останки куклы, швыряет через комнату. Та же участь постигает и раскрытый пакет печенья.
— Чтоб не осталось ни единого пятнышка или крошки.
— Хорошо.
— И нечего тут плакать, маленькая, толстая уродина.
Лунная девушка разворачивается и широкими шагами выходит из комнаты, несомненно, для того, чтобы провести пару часов в компании очищающих косметических средств и смягчающих кожу лица и тела лосьонов. После этого ритуала настроение у нее обычно улучшается.
Сидя на подлокотнике кресла, Харроу наблюдает за ребенком. Вроде бы смотреть не на что, но есть в девочке некая загадочность, которая интригует его, и почему-то ему кажется, что загадочного в дочери Лунной девушки даже больше, чем в матери со всем ее безумием.
Пигги с минуту сидит не шевелясь.
Слезы, будто такие же летучие, как спирт, исчезают со щек. Очень быстро и глаза становятся сухими.
Она открывает оставшийся пакет с картофельными чипсами, кладет один в рот. Потом второй. Третий. Медленно съедает все.
Вытерев пальцы бумажной салфеткой, отталкивает поднос, берет куклу, над платьем которой работала, когда ее мать и Харроу вошли в комнату. Держит ее в руках, ничего с ней не делает, только смотрит на лицо.
Странная мысль приходит к нему: а вдруг Пигги, туповатая, простушка Пигги, единственная из всех знакомых ему людей — именно такая, какой он ее видит, и потому кажется столь загадочной.
И вот тут, неожиданно, лицо девочки трансформируется, становится чуть ли не прекрасным. Как это происходит, Харроу по-прежнему не понимает.
Снаружи от смертельно раненного дня остается только кровавый свет, которому не хватает сил для того, чтобы проникнуть в комнату через щели в ставнях. Так что освещает ее только настольная лампа.
И тем не менее огоньки продолжают поблескивать в стеклянных бусинах торшера, который стоит в самом темном углу, в стеклянной ручке двери стенного шкафа, он тоже достаточно далеко от стола, в золоченых листьях резной картинной рамы, в оконном стекле, которое не может отражать свет настольной лампы.
У Харроу возникает ощущение, что, кроме него и ребенка, в комнате есть кто-то еще, но, разумеется, они тут вдвоем.
Пигги не начинает прибираться в присутствии Харроу. Таким делом она может заниматься, только оставаясь одна.
Он поднимается с подлокотника, еще какие-то мгновения смотрит на девочку, идет к двери, поворачивается, снова смотрит.
Он редко говорит что-нибудь ребенку. Еще реже Пигги говорит с ним.
Внезапно выражение лица девочки вызывает у него такой приступ ярости, что он уложил бы ее на пол крепким ударом кулака, если б не держал эмоции под абсолютным контролем.
Не глядя на Харроу, Пигги говорит: «До свидания», — и он вдруг обнаруживает себя в коридоре, запирающим дверь.
— Будешь гореть, как свиной жир, — бормочет Харроу, поворачивая ключ во врезном замке, и чувствует, как его лицо заливает краска, потому что это угроза юнца. Такое вправе говорить Лунная девушка, но не он.
Глава 36
Мужчина, которого Верной Лесли знал как Элиота Роузуотера, был Билли Пилгримом для своего помощника, который прилетел на заброшенную военную базу в пустыне Мохаве на двухмоторном самолете.
Пилот, он многократно работал с Билли, называл себя Понтером Шлоссом, для друзей — Ганни. Билли полагал, что Гюнтер Шлосс — настоящее имя, то самое, которое человек получает при рождении, но спорить, что это так, не стал бы.
Выглядел Ганни, как и полагалось Гюнтеру Шлоссу: высокий, с крепкой шеей, мускулистый, светловолосый и синеглазый. С таким лицом он мог без труда попасть на обложку ежемесячника «Белый супермен».
Но в реальной жизни одна его жена, очаровательная чернокожая, жила в Коста-Рике, а вторая, очаровательная китаянка, — в Сан-Франциско. По убеждениям он был не фашистом, а анархистом и однажды провел бурную неделю в Гаване, выкурив с Фиделем Кастро немало «косяков». Ганни Шлосс брал заказ на убийство любого человека, если по какой-то причине заказчик не хотел убивать того сам, плакал всякий раз, когда смотрел «Стальные магнолии»[19], а случалось такое как минимум раз в год.
После того, как Ганни убил Бобби Онионса и Вернона Лесли, он и Билли раздели трупы и оттащили их на пересечение двух дорог, проложенных по территории базы. Вывернули крышку люка из потрескавшегося, в островках травы, асфальта и сбросили мертвецов в ливневую цистерну, которую давно уже никто не использовал и, соответственно, не чистил.
Даже в пустыне иной раз шли дожди, и вода из сливных канав служебных дорог попадала в эту цистерну, так что темнота внизу воняла, пусть и не так сильно, как двадцать лет назад, когда база еще функционировала, а тела плюхнулись в какую-то жижу, думать о которой не хотелось.
Билли услышал внизу какое-то шебуршание, до того, как сбросили трупы, и после. Может, крысы, может, ящерицы, может, жуки размером с суповую тарелку.
В молодости он, наверное, посветил бы вниз фонарем, чтобы утолить свое любопытство. Но теперь он достаточно повзрослел, чтобы знать: излишнее любопытство приводит к тому, что получаешь пулю в лоб.
Работали они быстро, а после того как крышка люка легла на место, Ганни протянул руку Билли.
— Увидимся в Санта-Барбаре.
— Милое местечко, — кивнул Билли. — Мне правится Санта-Барбара. Надеюсь, никто никогда ее не взорвет.
— Кто-нибудь взорвет, — не согласился с ним Ганни, и не потому, что обладал пророческим даром. Просто был анархистом и всегда надеялся на худшее.
Ганни улетел на двухмоторной «Сессне», а Билли походил по территории, забрасывая песком оставленные следы, подбирая гильзы, поблескивающие в лучах вечернего солнца, еще раз проверяя, все ли куски черепа Бобби Онионса подобраны.
После исчезновения женщины никто не стал бы поднимать шума, пока она оставалась безвестной Редуинг, проживающей в скромном бунгало, тратящей жизнь исключительно на спасение собак.
Каждую неделю исчезало и погибало так много людей, что даже кабельное телевидение с его ненасытной любовью к кровавым убийствам не могло показать все трупы. Некоторые смерти были важнее других. Нельзя поднять рейтинг как киллера, так и шоу, руководствуясь принципом, что смерть воробья по значимости не уступает любой другой смерти.
Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по беременной красотке двадцати с небольшим лет, забитой до смерти мужем, расчлененной на двенадцать кусков, уложенной в сундук вместе с парой бетонных блоков и утопленной на дне пруда. Он звонит и звонит, двадцать четыре часа в сутки. Семь дней в неделю, и есть только один способ более не слышать его: перебраться на Планету обезьян.